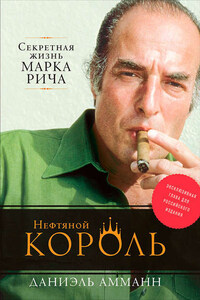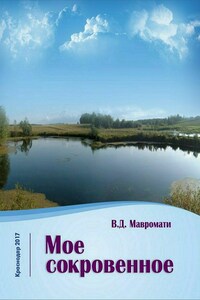В моем раннем, дошкольном детстве, состоявшем из череды то и дело повторявшихся болезней, самыми тягостными для меня были воспаления уха. То одного, то другого, а то и обоюдного. Недаром из всех окружавших меня в ту пору людей, кроме родных, я запомнил имя, точнее – фамилию, только одного: доктора Фиалковой, отоларинголога.
Через пропахшие скипидаром ватные компрессы, ко мне, одиноко лежачему в тиши дня, с четкой регулярностью пробивались приглушенные, невнятные, но принадлежавшие живому, беспокойному миру звуки. Удивляться их живости не приходилось – то был шум школьных перемен, а загадочную невнятность и приглушенность придавала стена, отделявшая мою койку от их горластого кипения. Она, стена, несмотря на внешнюю капитальность, лениво, но внятно резонировала от стихийной ребячьей непоседливости.
Акустическая аура директорской квартиры в школе захудалого уральского городка в годы войны.
В самом этом шуме, как в беспорядочной энтропичной среде, казалось бы, не было ничего интересного. Но я ждал. И, как правило, иногда в начале переменки, иногда в середине или конце возникало нечто волнующее меня: какая-то по кругу повторяющаяся примитивная мелодия, чуть слышимая из-за ее отдаленности, выводимая слаженными детскими голосами, можно сказать, со тщанием шаманства. Очевидно, это была какая-то неизвестная мне хороводная игра. Пение прерывалось на какую-то минуту, потом возникало вновь.
Именно повторяемость, можно сказать, заунывность одного и того же, то терявшаяся во всеобщем глухом и потому тревожном гуле, то вдруг прореза̀вшая его, а потом снова уходившая в ничто, почему-то волновала и томила. Даже страшила, но это был страх… не страшный, не жуткий, а как бы щекотный, его хотелось испытать еще. Какую-то тайность порождало сочетание (или наслаивание) неумолимого, словно океан, равнодушного рокота и вдруг вырывающегося из него (или бьющегося в него) тревожного, колеблющегося, ломкого, будто в последний раз звучавшего, но вновь и вновь возникающего… голоса-зова? Сигнала SOS? Упования на отзыв в безжизненной вселенской немоте?..
Пробуждалось смутное предчувствие. И даже смятение… Может быть, так являлся знак неумолимости судьбы и – неизбежной конечности?..
А однажды неведомая мне межурочная игра младших школяров приблизилась к ограничивающей их пространство стене, и я расслышал в будоражившем меня мотиве еще и слова.
Шел козёл дорогою, дорогою, дорогою,
Нашел козу безрогую, безрогую, безрогую.
«Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем
Да ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем».
А коза ругается, ругается, ругается,
А козёл бодается, бодается, бодается…
Но, как оказалось, содержание драмы раскрыв-шегося шестистрочного сюжета уже не играло для меня никакой роли. Кстати, первое время он по ошибке показался мне более, что ли, замысловатым. То ли была виновата стенная перегородка, то ли ватный тампон в ухе, но поначалу я воспринял вторую строку как «Нашел козу безногую». И тогда сюжет становился интригующим и драматичным до безобразия. Не очень добрый козел набрел на козу-инвалидку и стал над ней насмехаться: мол, давай попрыгаем! Коза, естественно, возмутилась, а козел-невежа «распустил руки», в данном случае – рога.
Когда же я избавился от заблуждения в фабуле этой баллады и, соответственно, в ее трактовке, все стало прозаичнее и, так сказать, типажнее. Коза беспричинно бранится (коза и есть коза!), ну, а с козлом и так все ясно…