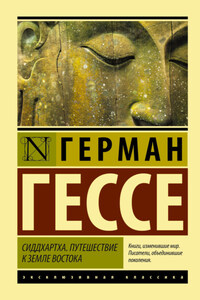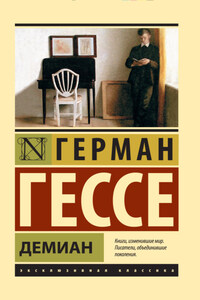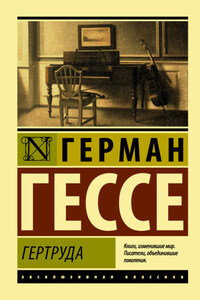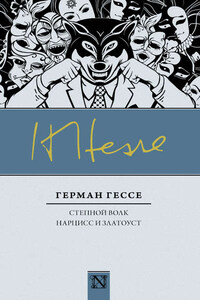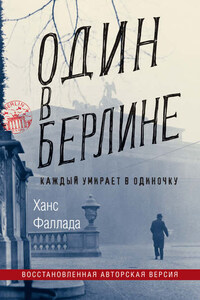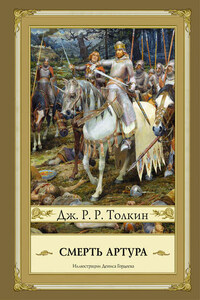Под сенью дома, на солнечном речном берегу возле лодок, под сенью ивовой рощи, под сенью смоковницы рос Сиддхартха, прекрасный сын брахмана, юный сокол, рос вместе с другом своим Говиндой, сыном брахмана. Солнце золотило его белые плечи на речном берегу, во время купанья, во время священных омовений, во время священных жертвоприношений. Тень вливалась в черные глаза его под пологом манговой рощи, во время отроческих игр, под песню матери, во время священных жертвоприношений, во время проповедей отца, постигшего многие науки, во время бесед мудрецов. Давно уже Сиддхартха участвовал в беседах мудрецов, упражнялся с Говиндой в искусстве наблюдения, в служенье медитации. Он умел уже беззвучно произносить ом, слово из слов, на вдохе беззвучно роняя его в себя, на выдохе же беззвучно роняя его вовне, сосредоточившись душою, с челом, осиянным блеском ясно мыслящего духа. Он умел уже ощутить внутри своего существа атман, несокрушимый, неотделимый от вселенной.
Радостью полнилось сердце отца его, когда он смотрел на сына, смышленого, жаждущего знаний, и видел в нем будущего великого мыслителя и жреца – князя среди брахманов.
Блаженством полнилась грудь матери его, когда она смотрела на него, видела, как он ходит, как он садится и встает – Сиддхартха, сильный, прекрасный, несомый стройными ногами, приветствующий ее с безупречным достоинством.
Любовь трепетала в сердцах юных дочерей брахманов, когда Сиддхартха шагал по городским улицам – сияющее чело, царственный взор, узкие бедра.
Но больше всех любил его Говинда, его друг, сын брахмана. Он любил глаза Сиддхартхи и мелодичный голос, любил его походку и безупречное достоинство движений, любил все, что бы ни делал и ни говорил Сиддхартха, а превыше всего любил его дух, его пылкие, возвышенные помыслы, его страстную волю, его высокое призвание. Говинда знал: не будет Сиддхартха ни заурядным брахманом, ни ленивым храмовым служителем, ни алчным торговцем заклинаниями, ни тщеславным празднословом, ни злобным, коварным жрецом, как не будет и кротким глупым стадным бараном. Нет, и сам он, Говинда, тоже не хотел быть таким брахманом, одним из многих тысяч. Он последует за Сиддхартхой, возлюбленным, несравненным. И если Сиддхартха станет когда-нибудь божеством, если войдет когда-нибудь в сонм лучезарных, то Говинда последует за ним – его друг, и спутник, и слуга, и копьеносец, и просто его тень.
Все любили Сиддхартху. Всех он радовал, всем был по сердцу.
Самого же себя Сиддхартха не радовал, себе он не был по сердцу. Прогуливаясь по дорожкам сада средь свежести смоковниц, сидя в мерцающе-синей тени рощи созерцания, совершая ежедневное очистительное омовение, творя жертву в глубоком сумраке мангового леса, полный безупречного достоинства во всяком движенье, всеми любимый, всех радующий, он, однако, не ведал радости в сердце своем. Грезы являлись ему и беспокойные мысли в текучих речных струях, в мерцанье искристых ночных звезд, в блеске сияющих солнечных лучей; грезами и беспокойными мыслями курились жертвы, дышали стихи Ригведы, сочились проповеди стариков брахманов.
Сиддхартха начал взращивать в себе недовольство. Мало-помалу он почувствовал, что любовь отца, и любовь матери, и любовь друга, Говинды, не будут вечно, до скончания времен дарить ему счастье, утолять боль, насыщать его, довлеть ему. Он начал догадываться, что его почтенный отец и другие его наставники, а также мудрецы брахманы уже сообщили ему бульшую и лучшую часть своих познаний, перелили их в его ожидающий сосуд, и сосуд не наполнился, дух не был удовлетворен, душа не успокоилась, сердце не утихло. Омовения приносили благо, но ведь они были всего-навсего водою, они не смывали грех, не утоляли духовной жажды, не унимали сердечного страха. Выше похвал были жертвы и обращенье к богам – но неужели это все? Даруют ли жертвы счастье? И как обстоит с богами? Вправду ли именно Праджапати создал мир? А не атман ли, Он, единственный, единосущный? Не суть ли боги творения, созданные, как ты и я, подвластные времени, преходящие? Так благо ли и правильно ли приносить жертвы этим богам, есть ли высокий смысл в таком деянье? Кому же тогда приносить жертвы, кому оказывать почести, как не Ему, единственному, атману? А где найти атман, где Он обитает, где бьется Его вечное сердце, где, как не в собственном «я», в сокровеннейшей глубине, в несокрушимом, которое всяк носит в себе? Но где, где заключено это «я», это сокровеннейшее, это последнее? Он – не плоть и не кости, не мышление и не сознание, так учили мудрейшие. Где же оно, где? Проникнуть туда, к этому «я», ко «мне», к атману, – есть ли иной путь, какого стоит искать? Ах, и не укажет никто этот путь, никто его не ведает, ни отец, ни учители и мудрецы, ни священные жертвенные песнопения! Всё они знали, брахманы и священные их книги, всё они знали, обо всем пеклись, и даже более чем обо всем; бесконечно многое было им ведомо: сотворение мира, возникновение речи, пищи, вдоха, выдоха, распорядки чувств, деяния богов, – но что проку в этом знании, если не знаешь одного-единственного, самого важного, единственно важного?