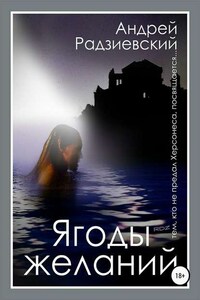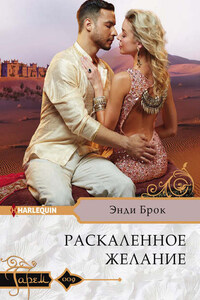Дни отрывались желтыми листочками настенного календаря, заполняли талым снегом тротуары и тревожили беззаботное студенчество все более частыми напоминаниями преподавателей о надвигающейся сессии. Их размеренный бег, перемахнув за восьмой десяток двадцатого столетия, ни в чем не изменился для привыкшего к этому ритму человечества, а в жизни Женьки наступила пауза – уже две недели не было писем. Раньше, почти каждый день, он получал теплые, желанные конвертики с одним и тем же аккуратненьким почерком, родного, но ставшего теперь таким далеким обратного адреса. Блуждая по карманам, последний из них уже посерел и измялся, и он знал содержание наизусть, потому что, если вдруг задерживалось очередное послание, просто перечитывал и перечитывал старое, приходило новое – это письмо перекочевывало из кармана в тумбочку у кровати, наращивая строгую стопку конвертов.
Первые дни, когда привычный ритм переписки замер, Женька ругал нелетную погоду, с надеждой взирая в пасмурное ленинградское небо, потом – нерадивых работников почты, затем истерично вспоминал свои последние письма, думая, что причина молчания в какой-нибудь обидевшей Марину строчке. На второй неделе он совсем выбился из сил от бесконечных плутаний по лабиринту мрачных домыслов и стал просто ждать, ждать безропотно, передвигаясь в пространстве и во времени с одной надеждой, что вот завтра оно обязательно придет, но «завтра» становилось «сегодня», «сегодня» становилось «вчера», а письма все не было. В эти дни в Женькиной голове ничего не укладывалось, на лекциях сидел, уставившись в одну никому не известную точку в ожидании перерывов, которыми отмерялось время до конца занятий. Недослушав дребезжания звонка, выскакивал первым из аудитории, и когда шумная толпа вваливалась в курилку, от его сигареты оставалась уже половинка.
– Наркоманишь, Шмидт? Да-а! Это не спроста-а! – дежурно язвил Борька – сокурсник и сожитель по комнате в общежитии. Кличка Шмидт, приклеенная Женьке, – это детище его чересчур меткого юмора. Вообще-то полностью она звучала сначала как «лейтенант Шмидт» и появилась на свет: во-первых, за Женькин «почтовый роман», а во-вторых, из-за несбывшейся мечты стать военно-морским офицером. Он ехал в Ленинград только с этой целью, но когда не прошел по здоровью приемную комиссию, чтобы не возвращаться домой с позором, перевел документы в институт. С мечтой всегда тяжело проститься, а меткий и едкий сосед знал, куда бить. Особо не обижался, в чем-то ему даже нравилось это льстящее сравнение, хотя и произносил Борис его то с иронией, посмеиваясь над его переживаниями, то в гневе, когда подолгу, глубоко за полночь, не выключался свет в их комнате из-за регулярных писаний писем за тридевять земель.
Сегодня была пятница, и подвалило маленькое студенческое счастье. Кто-то заболел или кто-то куда-то не дошел, в общем, последняя пара оказалась свободной и, как объявил первый узнавший об этом под общие аплодисменты:
– Есть шара сорваться из альма-матер пораньше!
И вот, «сорвавшись», брели шумной толпой по улице, помахивая дипломатами, перебрасываясь шутками и радуясь в предвкушении веселья на выходные.
– Ну что, други? Командовать парадом буду я! – перебил общий гомон заводила Борька, страстный любитель произведений Ильфа и Петрова, он так и сыпал афоризмами Остапа Ибрагимовича, то и дело, подражая ему в закидывании шарфа за спину. – Да воздадим должное нашим предкам заботливым, за их вовремя отправленные переводы, чем они стимулируют насыщенный отдых своих отпрысков, и не подведем их надежд, а посему – «По машинам!», устроим сегодня Вакха-ралли, ударив веселье-пробегом по тунеядству и бездорожью!