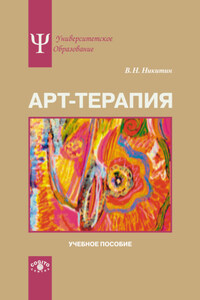В один из вечеров третьего месяца безоблачной беременности у меня началось кровотечение. Я сидела на унитазе и плакала. Позвала своего тогда еще будущего мужа, добралась до машины – и в больницу: до нее было несколько минут езды. Худая врач с русским лицом такого же оттенка, как и ее бледно-зеленый операционный костюм, выглядела, будто ее только что разбудили, и была настолько вялой и безразличной, я бы сказала, даже отрешенной, что у меня закралось подозрение, не укололась ли она. Грубо покопавшись во мне наконечником устаревшего УЗИ, врач сообщила, что не видит никакой беременности. Получалось, что я все выдумала. Наверное, мой растерянный вид вызвал в ней жалость, и, смягчившись, она добавила, что аппаратура эта старая и что мне стоит подождать до утра, когда откроют кабинет с новым УЗИ и сделают более подробное обследование.
– Жаль, – еле коснувшись моей руки, заметила она.
Я лежала на больничной кровати. Одним этажом выше прямо надо мной рождались дети; матери кормили, кружили по коридору, как и положено после родов, на широко расставленных ногах и кровили в толстые прокладки. Я уже больше не кровила – моя маленькая уже не существующая беременность больше не кровила.
Утром молоденькая, лет двадцати, техник обследовала меня на новом УЗИ.
– Это mis[1], – громко бросила она стоявшему возле моей головы врачу.
Я выползла из кабинета; трусы в пятнах свернувшейся крови, живот вымазан прозрачным гелем. Вытираюсь. Все. Я больше не беременна. И что же мне теперь делать?
Все старались делать вид, что ничего не случилось.
– Это ведь не то, чтобы ты действительно потеряла ребенка, – сказала мне моя лучшая подруга, и у меня не хватило духу ей возразить.
А на самом деле я чувствовала, что, да, потеряла ребенка, но говорить об этом мне нельзя. Всю свою жизнь я пыталась исправить неисправимое, спасти безнадежное тем, что переключалась на что-то новое и замечательное – этакое чудодейственное лекарство, которое я сама для себя же и придумывала. Лекарство достаточно длительного действия, чтобы, очнувшись, я вспоминала о пережитой боли как о чем-то мимолетном и незначительном. Так было и после выкидыша. Прошло два дня, мы ехали в машине. Дорога эта из Тель-Авива в Иерусалим всегда потрясающе красива.
– Давай все поправим, – предложила я своему другу, не сводя глаз с дороги, – давай, поженимся.
В тот же вечер я позвонила нашим самым близким друзьям и сообщила, что у меня есть два известия: одно грустное и одно радостное. Я уже больше не беременна, и я выхожу замуж.
Мы погрузились в подготовку к свадьбе и делали все, о чем мечтали: подобрали чудесный свадебный наряд; накатали несколько сот километров в поисках особых сыров, хорошего вина и свежего домашнего хлеба, который будет доставлен еще теплым прямо к праздничному столу. И все это время я не радовалась так, как думала, что должна радоваться. А потому сердилась на себя, даже начала подозревать, что, возможно, недостаточно люблю своего будущего мужа, и придиралась к нему из-за любой мелочи, объясняя, как это важно не упустить ни одной детали. И мы ничего не упускали; все, конечно, было отлично. Все, кроме одного: ничто меня по-настоящему не радовало, и я пришла к выводу, что у меня явно есть какой-то дефект; что я не способна любить. Я продолжала готовиться к свадьбе, злясь на себя за то, что не свечусь от счастья.
Мы поженились в саду его мамы. Сама хупа происходила на вытоптанной площадке между лимонным и оливковым деревом. Позже я не раз мысленно возвращалась в это место в надежде найти там убежище и душевный покой. Все вокруг нас растроганно улыбались, а я сверхчеловеческим усилием пыталась связать себя с этим садом, с этими праздничными лицами, с моим женихом, с моей мамой, с моей свадьбой, с моим любимым человеком.