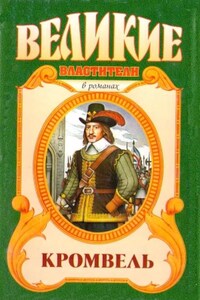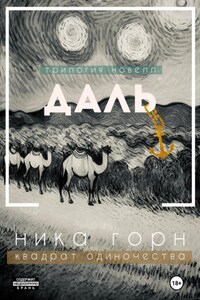Глава первая
В доме Погодина
Уже получив в руки пропущенную рукопись первого тома, Николай Васильевич, неожиданно для себя, с болезненной остротой ощутил, что вечное им кое-где позабыто. Сомнения тотчас одолели его, и если бы у него завелось кое-какое имущество, он бы не то что без сожаления, а прямо с облегчением, с радостью отдал всё это имущество на одном непременном условии: чтобы до времени, покуда он справится со своими сомненьями, не печатать никаких своих сочинений, в первую очередь именно «Мертвые души».
Однако же у него не было нажито никакого имущества. Ему было буквально не на что жить, не говоря уж о том, что и ни копейки не наскреблось на уплату самых неотложных долгов, не выплатить которые было бы прямо бесчестно, как не было и ни копейки, чтобы побыстрее собраться в дорогу, в которую он перед тем не хотел и без которой теперь, казалось ему, уже задыхался. Тем более не говоря уж о том, что на свете не было места, где бы приняли это имущество на условии исполнения его пожеланий и просьб.
Непостижимое стечение противных ему обстоятельств внезапно с сокрушительной силой обрушилось на него, и он пошатнулся, этими обстоятельствами принуждённый тотчас печатать, язвя себя что ни день, что до какой человек ни доберется разумности, всё ж таки одним воздухом никому пока что пропитаться нельзя. Он бросился вставлять в рукопись самые насущные исправления, писать наново всю важную для него повесть о капитане Копейкине, которую в прежнем виде не решился пропустить и самый понимающий, самый либеральный из цензоров Никитенко, бросился держать корректуры, всё почти разом, дивясь, как это у него не переворотилось всё в голове, ужасно спеша, как на гипподроме на скачках, то и дело выслушивая самые дружеские советы и сетованья, что именно ему-то и не имеется ни малейшего смысла спешить, что его-то поэма, когда бы ни вышла, хотя бы к июню, разошлась бы во всякое время, у него же не помещалось в уме, как не понимали эти желавшие ему исключительно добра голоса, сами все литераторы, все литературные люди, всегда имевшие дело с книжной торговлей, что дело обстоит совершенно не так, как оно сложилось в их головах, и в немногое свободное время терпеливо всем толковал, стыдясь поглядеть им в глаза:
– Как можно сказать: пора на такое-то сочинение не существует? Пора существует на всё. Что такое-то сочинение разошлось даже летом, это только и значит, что зимой его разошлось бы вдвое побольше. Подумайте только о том, что размен мыслей, впечатлений и новостей в нашем отечестве производится только зимой, когда всё соединяется в общества, съезжается в города. Тогда всё расходится быстро, всеми всё узнается, до последней мелкой сплетни включительно. Летом, напротив, в нашем отечестве всё гаснет и дремлет. Сообщения людей исчезают. Один на Кавказе, другой за границей, третий зарылся в деревенское захолустье. Лениво движутся слухи. Новости и вести едва доносятся издалека. Шум и крики, которые способствуют огласке всякого происшествия, все умолкают. Разъединено решительно всё. Как же хотите, чтобы могли быть эти два противоположные времени равно благоприятны расходу какой бы то ни было книги! Разница между ними видна. Пора это знать.
На его рассуждения дружно все отвечали ему, что если он так спешит, для чего переделки и переправки. Это уж мнительность и чересчур. И без переделок, без переправок удивительно превосходно и в целом, и в частях, и во всем, не в пример хотя бы Павлова повестям. И все эти бестолковые толки камнем ложились на прежние толки, какими он уже напитался в говорливой Москве, разрастаясь в какую-то одну странную, непонятную непостижимую гадость, так что он, спеша и терзаясь, задавался всё чаще вопросом, из какой крайней нужды он заехал сюда и не наделал ли этим заездом в двадцать раз больше беды, желая этим заездом поправить свои отношения и сделать их гораздо получше?