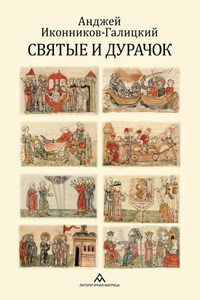Он лежал на боку упавшей лошади, её горячее тело уже затихло, отдавая жизнь с запахом пота и домашней теплоты. Невыносимо давило грудь, не хватало воздуха, боль, острая, пронизывающая, крики, дым, скачущие тени. Вдруг Тарабаркин увидел кровь в ботфортах, его кровь, почувствовал мягкое мерцающее пламя, где-то в бедре пульсировало, булькало, нога каменела. Он дёрнулся, стало легче, воздух будто очистился, глубоко вздохнул. Вокруг разрывались снаряды, сухими хлопками, похожими на старческий кашель, застилая всё едким дымом. Перед глазами поплыли тёмные круги, потом они смешались, превратившись в мутное вязкое стекло, кто-то рядом выскочил, медленно вскидывая руки в смертельном танце. Появился гренадёр, грациозно приседая, воткнул штык в седока на каурой лошади, тот замер и картинно, как в плохом театре, откинулся, роняя саблю, тут же неспешно перед ним прошёл конь, закрывая трагическую сцену словно занавесом. Неожиданно сверху появилось лицо денщика Сапрыки, удивительно похожего на сухопарого Костю Шансина, но только с оттопыренными ушами. Лицо денщика в страхе перекосилось, он попытался поднять Тарабаркина, но с ужасом отпрянул, смотря на свои окровавленные руки. Тогда Санька понял, он умирает, неожиданно нахлынуло душевное облегчение, небесно-светлое, очищающее, он улыбнулся, тихо подумал: «Про меня скажут, что я геройски погиб, девицы будут трагично всхлипывать, утирая слёзы кружевными платочками», и представил, как дочь полковника, с которой он помолвлен, будет принимать соболезнования, закатывая свои карие бесстыжие глазищи, обмахивая высокую грудь.
Сквозь шум, уходящий в беззвучную мглу, он услышал слова денщика:
– Ваше сиятельство, это как же… ваше сиятельство… – но Тарабаркин ему не ответил, склонил голову, последний раз вздохнул и… проснулся, засопел, завертелся на подушке, резко, с болью под сердцем ощутил, что невероятное чувство лёгкости от исполненного долга уходит, запаниковал, но было поздно.
Сквозь васильковые шторки на окне пробивались утренние лучи солнца, освещая прохладную комнату. Санька поднялся, опёрся о край кровати, посмотрел на брошенные брюки, изображавшие на полу порванного осьминога, смятую рубашку и печально прошептал:
– Ваше сиятельство.
Откинулся на подушку, потянулся, блаженно повторяя последнее слово, потом быстро поднялся, громко произнёс:
– А почему бы и нет, – после чего суетливо натянул на себя одежду, пошёл на веранду.
На облупленном подоконнике он нашёл полоску бельевой резинки, посмотрел на суетливых мух, деловито снующих по клеёнке стола, хитро ухмыльнулся, сузив свои слегка раскосые глаза, принялся вытягивать из ткани тонкие белые прожилки. Его толстые желтоватые от курева пальцы пробивала мелкая дрожь, отчего не удавалось ровно вытащить хороший кусок. Резинки нужна для охоты на мух, любимая забава ещё с детства. В то далёкое время он мог часами выхаживать по просторной тёткиной веранде, сшибать назойливых летунов. Особенно он радовался, когда удавалось сбить не сидящую на стекле, а в полёте, выписывающую виртуозные петли. Тогда казалось, что в руках у него не просто резинка, а зенитка, плюющая свистящими снарядами. А сейчас мухи нагло выхаживали по столу, роились над блюдцем с вареньем, кружились у него перед носом, норовя присесть на пушистые усы, пахнущие вчерашней селёдкой, отчего Сашка шумно фыркал, тихо костерил окружающую обстановку, поэтому не услышал, как вошла тётка, дородная Вера Павловна, в широкой кофте и длиннополой юбке грубой шерсти с кокетливой белоснежной оторочкой по краю. С укоризной посмотрев на своего племянника, она хмыкнула, поставила на стол жестяной поднос с посудой, чайником и сушками.