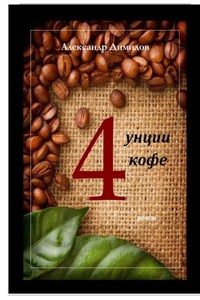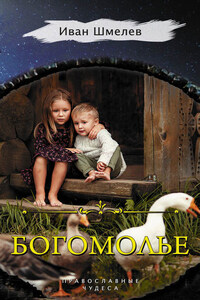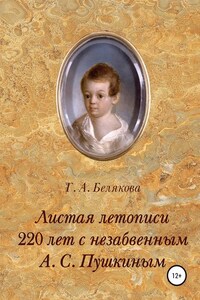Старинные книги и рукописи – страсть моя. Из заброшенной барской усадьбы знакомому мне букинисту было доставлено несколько ящиков старых книг. Отобрав все мало-мальски ценное, букинист свалил остальной хлам в угол лавки для продажи на вес. Роясь в этом хламе, я напал на объемистую тетрадь с пожелтевшими, подмоченными страницами, исписанную простым карандашом. Почерк писавшего был не совсем еще твердый, но четкий, с затейливыми завитушками, орфография же – в некотором разладе с грамматикой. Я хотел уж бросить мою находку в общую кучу, когда на глаза мне попалось одно имя, сразу приковавшее мое внимание – имя Наполеона. Перелистывая страницу за страницей, я встретил еще несколько имен французских и русских, получивших громкую известность в эпоху Отечественной войны, а вчитавшись, убедился, что имею в руках подлинный дневник 1812 года. Букинист, не придавая никакого значения этой рукописи, отдал мне ее в придачу к купленным мною книгам. Выпустив из нее все лишнее, не идущее к делу, я разделил ее, для удобства читателей, на главы с соответственными заголовками и печатаю теперь этот любопытный дневник очевидца, а отчасти и участника великой войны в первоначальном, безыскусственном виде.
Бурсак, гувернер-француз и семейство Толбухиных. Весть о переходе Наполеона через Неман. Гувернер скрывается
Ну вот, очинил карандаш и, благое ловясь, начинаю.
Было это сегодня же, 11 июня. Хожу я этак по двору, в думы свои погруженный, а навстречу мосье Мулине:
– Здравствуйте, молодой человек! Чего нос повесили?
– Тяжело, – говорю, – на душе, – нос книзу и тянет.
– Шутите, мой друг, шутите, – говорит, – а я отлично знаю, что вас гнетет. Тоже ведь раз зеленым юнцом был.
– Ну что? Что?
– А то, что мадемуазель Барб вам опять голову намылила. Ведь так?
– Так или не так, – говорю, – вы-то, мосье Мулине, мне все равно не поможете!
– Напротив, – говорит, – у меня есть для вас верное средство: пишите дневник. Как выльется на бумагу, что на душе накипело, – сразу полегчает. На себе испытал.
– Да в доме у нас, – говорю, – и чернил-то нет.
– А еще в семинарии всяким наукам обучались! Так карандаш-то хоть найдется. Нет, без шуток, – говорит, – вы послушайтесь моего совета; этакий дневник – что горчичник: всякую боль оттянет.
Сказал и пошел своей дорогой.
А задала она мне и вправду здоровую взбучку:
– Не могу, – говорит, – глядеть на тебя, Андрюша, как ты целый день этак без дела болтаешься! Ведь ты годом меня моложе.
– Да, – говорю, – с Рождества восемнадцатый пошел.
– Что ж из тебя, наконец, выйдет!
– Ничего, – говорю, – не выйдет. – А сам вздыхаю. – Из бурсы за малоуспешность удален.
– Да малоуспешность-то отчего? От лени?
– Лень, Варвара Аристарховна, раньше нас родилась! Старая еще пословица.
– И преглупая. Поискал бы ты себе каких-нибудь занятий.
– Да что же я умею? В шашки играть, голубей гонять, бумажный змей пускать…
– И неправда! Учил же ты брата Петю письму, арифметике. Но с тех пор, что взяли для него гувернера, ты от всего отбился, а Петю только глупостям учишь.
– Ах, Варвара Аристарховна! – говорю. – Братец ваш – дворянин; впереди ему везде дорога, а я что? Разночинец, простого дьякона сын…
– Да умом ведь тоже не обижен? Давно ли у нас Мулине; говоришь ты с ним нечасто; а вон как бойко уж болтаешь с ним по-французски.
– И а́кцент бесподобный, бурсацкий.
– Не а́кцент, а акце́нт. Способность к языкам у тебя все-таки есть. Право же, Андрюша, взялся бы ты, наконец, за ум.
Тут ее отозвали…
Однако рука у меня с непривычки отекла. На сегодня довольно. А на душе и то ведь как будто немножко отлегло, просветлело.