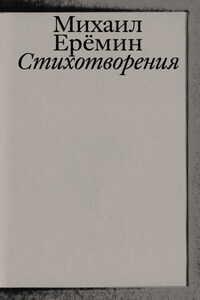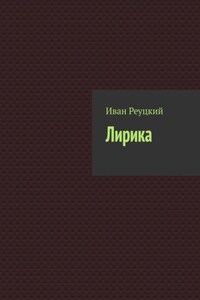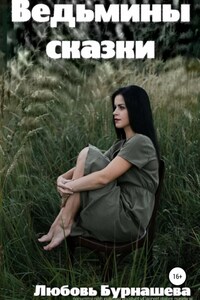Отражение в зеркальных водоёмах мерцающих над нами звёзд
1
Две трети века, в которые создавалась эта книга – огромный срок для страны и для ее поэзии. Так трудно понять сегодня родившихся в 1930‐е и взрослевших в 1950‐е, узнавших и увидевших в детстве то, чего знать и видеть детям нельзя. Старавшихся это забыть и даже, пока были на это силы и здоровье, как бы забывших. Особенно же в послеблокадном, потерявшем огромную часть жителей, Ленинграде.
Чтобы любить, вдохновляться, прорываться к высокому, нужно было изгнать из своих снов штабеля трупов, запеленатых в простыни, скрепленные английскими булавками, свист авиабомб, становящийся перед взрывом нестерпимым, неправдоподобные утешения матерей, пытавшихся не дать разглядеть происходящее.
И уже по другим причинам, скорее связанным с происходящей сегодня катастрофой иного рода, становится трудным понять и другое: то, непредставимое в мире, опутанном социальными сетями и цепями «мягкой силы», мире профанированных святынь и дискредитированных авторитетов, благоговение перед тем, что пробивает любые преграды обыденного, перед тем, что лишено малейшей прагматики.
Последнее в русской истории поколение поэтов взрослело в невообразимом быту коммунальных квартир и бараков, скудного питания и заплатанной одежды, и, как и положено героическому поколению, отказываясь этот быт замечать, возводило некий храм трансцендентного. Но и ему выпала высокая награда: поэтам еще внимали, их стихи перепечатывались на машинках и заучивались наизусть, поэтов любили.
Впрочем, это поколение оказалось последним повсеместно: традиционная для европейской культуры фигура поэта – любимца богов среди родившихся в 1940‐е начинает размываться, а среди родившихся в 1950‐е и последующие исчезает так же, как это было, по крайней мере, уже дважды в зафиксированной письменностью истории: на закате Античности и при угасании в XVIII веке «Старого режима». Тем дороже нам это последнее дуновение великой культуры Нового времени.
2
При попытке реконструкции послевоенной ленинградской поэзии сегодня, спустя 70–60–50 лет, всё явственнее проступает значимость тех, кого можно было бы поименовать «большим квинтетом». Именно эта практика равноправного камерного музицирования лучше всего (вопреки амбициям большинства его участников) передает суть происходившего тогда в нашей поэзии, максимально оторванной (несмотря на личные связи) от остальной России и, в первую очередь, от Москвы. Оторванной так, словно это были две разные поэзии, использующие лишь один литературный язык, не более того.
Виктор Соснора, Михаил Ерёмин, Александр Кушнер, Леонид Аронзон, Иосиф Бродский (в возрастном порядке) неотъемлемо и равно определяют для нас эту амбивалентную эпоху, продолжавшуюся еще примерно два десятилетия после смерти Сталина, пока тяжелая депрессия не охватила все структуры и все слои советского общества, от правящей верхушки, статусной научной и творческой интеллигенции до, казалось бы, главных бенефициаров Октябрьской революции, рабочих, крестьян и инородцев. Эта депрессия буквально раздавит следующее поколение, которое будет находить защиту в ретромодернистском культе Серебряного века, неофитском «православном возрождении», идентификации себя с привилегированными классами царской России.
Почти ничего общего между поэтами «большого квинтета» не найти. Ни в поэтике, ни в «литературном быту». Каждый из них в меру своего героизма вступал в единоборство с могучим еще в те годы левиафаном: ведь тот опирался не на одно голое насилие догматической идеологии и мракобесной цензуры – на его стороне в значительной степени оказывалось поколение фронтовых поэтов, героев войны, оскорбленных непризнанием «молодежи».