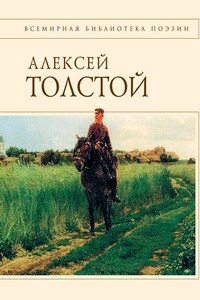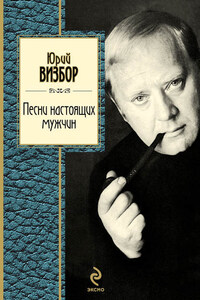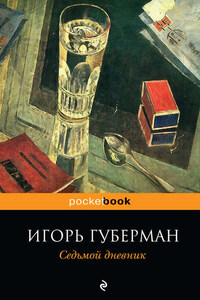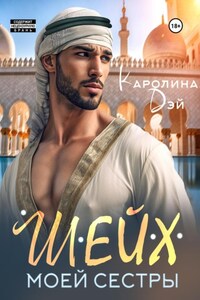Ты – легкий, разноцветный и прозрачный…
Сразу после октябрьского переворота 1917 года большинство друзей поэта Кузмина разбежалось из мигом озверевшей России, кто куда. В основном, конечно, «туда», на Запад. Но в отношениях поэта, оставшегося навсегда на родине, без которой он не мыслил своего существования, с беглыми друзьями ничего не изменилось:
…Пускай они в Париже,
Берлине или где,
Любимыми и ближе
Быть на земле нельзя…
И вот, когда появилась в 1922 году оказия, возможность через одного приятеля переслать весточку друзьям на Запад и рассказать им о своем тогдашнем житье-бытье, Кузмин нашел для этого такие слова:
Что бедные мы, но это не новость:
какое же у воробьев именье?
занялись замечательной торговлей:
все продаем и ничего не покупаем,
смотрим на весеннее небо
и думаем о друзьях далеких.
Устало ли наше сердце,
ослабели ли наши руки,
пусть судят по новым книгам,
которые когда-нибудь выйдут…
Расскажите им, что мы живы, здоровы,
часто их вспоминаем,
не умерли, а даже закалились,
скоро совсем попадем в святые,
что не пили, не ели, не обувались,
духовными словами питались…
«Поручение»
Действительно, какое может быть у «воробьев» именье, то есть имущество?!
Да и анкетные данные у «воробьев» не могут быть, как у всех простых людей.
Вот и у Михаила Алексеевича Кузмина, единственного великого и притом не трагического поэта в истории русской поэзии, – который сам о себе как-то написал: «Мне не подходит умирать ни от каких причин», – даже дат рождения было, например, аж целых три.
И все три – вполне официальные!
Первую дату и сегодня может увидеть, что называется, своими глазами, каждый желающий. Для этого надо просто поехать в Санкт-Петербург. Там на знаменитых Литераторских мостках Волкова кладбища вы и прочтёте:
МИХАИЛ КУЗМИН.
ПОЭТ
1875 – 1936
Всякий человек умирает.
Только простой умирает один раз, а великий человек – дважды. Сначала – просто как человек. А потом – еще и как великий человек.
Михаил Алексеевич любил повторять эти слова, но при этом всегда добавлял – но, конечно, бывают и исключения.
А еще он говорил одному своему другу, что не успеет великий человек умереть, и тут же его или забывают, или, наоборот, начинают вспоминать о нем с такой силой, что, кажется, будто он и умер только для того, чтобы было о ком вспоминать.
И когда пришел час воспоминаний о самом Кузмине, и если бы удалось собрать некоторые из воспоминаний, ну, хотя бы тех, кто имел счастье личного знакомства с поэтом, в один цельный блок, то получился бы примерно такой текст:
«Хоронили Михаила Кузмина 1 марта 1936 года, – вспоминает, допустим, один современник. – Зимний день. Серый мокрый снег. Жиденький оркестр в милицейских шинелях и штатских пальто, набранный наспех Союзом писателей…
Перед воротами больницы человек сорок, друзей и знакомых…»
«Литературных» людей, – продолжил бы другой современник, – на похоронах было меньше, чем «полагается», но, может быть, больше, чем хотелось бы видеть…
Вспомнилось, что за гробом Оскара Уайльда шли только семь человек, и то не все дошли до конца…
Почему-то многие вспоминали эти строчки не помню из кого:
И утомившиеся от сверканья,
Кто-то закрыл во гробу, как в ларце,
Глаза, словно два драгоценные камня,
На некрасивом красивом лице…»
«А мне сегодняшние похороны почему-то связались с его стихотворением 1921 года. Помните, какой это страшный был год? Когда мы в августе месяце потеряли сразу и Александра Блока и несчастного недотепу-террориста, а поэта местами даже очень славного, Колю Гумилева:
Мне не горьки нужда и плен,
И разрушение и голод,
Но в душу проникает холод,
Сладелой струйкой вьется тлен.
Что значат «хлеб», «вода», «дрова» —
Мы поняли и будто знаем.
Но с каждым часом забываем