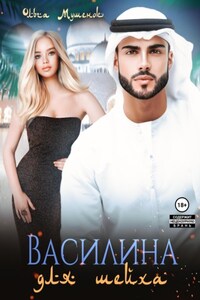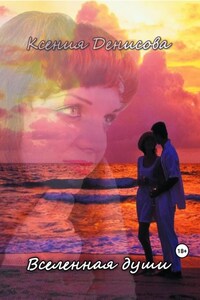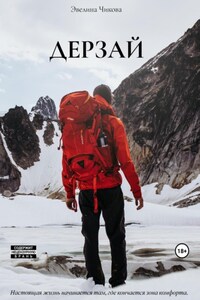Нет ничего хуже, чем быть потухшей звездой захудалого театра, когда грусть о не сыгранных в прошлом ролях, становится сопоставимой с тоской от ролей сегодняшних; когда начинаешь верить, что ты до сих пор так же хороша как та симпатичная девушка на пожелтевшей афише, висящей в твоей гримёрке; когда становится проще импровизировать на сцене, чем учить роль, зритель всё равно ничего не заметит, поскольку ему нет никакого дела до того, что ты играешь, он ждёт антракта с коньячком в буфете, пусть палёным, но всё равно способным заглушить душевную боль, никак не связанную с происходящим на подмостках. Поэтому ты уже давно перестала рвать жилы и искать образы, обдумывать роли и перевоплощаться на сцене, особенно когда тебя непрерывно обуревает не угасающая с годами страсть. И ты всякий раз, выходя на сцену, освещённую выжигающим глаза софитом, чувствуешь себя голой, испытывая при этом нечто, сравнимое с оргазмом, словно тебя пожирает похотливым взглядом зияющая чернота зрительного зала. Но ладно бы если только на сцене, ты не в силах справиться со своими демонами и в обычной жизни, стараясь не оказывать сопротивление ненасытному желанию, пылающему внутри твоего тела. Время идёт, растёт количество поверженных тобою, но пламя не угасает, а с неимоверной силой разгорается, выжигая всё на своём пути. Не спасает даже имя, дарованное тебе свыше. Он нарёк тебя Любовью, но ты всё равно пошла наперекор Ему, променяв Любовь на Страсть.
1
Уже несколько часов Люба лежала с закрытыми глазами, крепко сжимая холодеющую руку Алексея. Ей так хотелось посмотреть на него, ещё раз полюбоваться его профилем и прикоснуться к его совершенному, прокачанному телу, которое до недавнего времени всецело принадлежало только ей, но было страшно, и чем твёрже и холоднее становилась его рука, тем сильнее был этот страх.
Телефонный звонок вывел из ступора, пришлось открыть глаза, отбросить в сторону одеяло и снять трубку.
– Блядь…, – прохрипела она, увидев, что сидит на кровати голая.
– Не понял, Любовь Викторовна, – раздался на той стороне провода недоуменный голос администратора.
– Это я не тебе, Андрюшенька, – сменив тональность, произнесла она. – Доброе утро, я уже проснулась. У нас всё по плану?
– Доброе утро. Да, сегодня вечерняя смена. Леночка ждёт вас на грим в семнадцать тридцать.
– Понятно, – она сделала паузу, бросив взгляд на лежащего на другой стороне кровати Алексея, – у меня есть ещё просьба…
– Любой каприз Любовь Викторовна.
– Закажи мне билет на завтра на утренний рейс, хочу пару дней побыть дома. У меня же пауза в съёмках есть?
– Сейчас посмотрю… Да, есть. Обязательно закажу. Что ещё?
– Дай мне сейчас машину на час-полтора, хочу по магазинам прошвырнуться.
– Не проблема, спускайтесь, я скажу водителю, чтобы подъехал к центральному входу.
В гостиницу она вернулась с двумя огромными фирменными пакетами, и быстро, стараясь никому не попадаться на глаза, поднялась в свой номер, повесила на дверь табличку «не беспокоить» и вытрусила содержимое пакетов на диван. Платье и ещё какие-то мелочи из одежды отшвырнула в сторону, нашла кухонные резиновые перчатки и натянула их на руки.
– Какой же ты, сука, тяжёлый, – злобно прошептала Люба, столкнув с кровати почти окаменевшее тело, которое с противным звуком грохнулось об пол.
Затащить его в ванну оказалось ещё труднее, давал о себе знать литр выпитой вчера текилы, но она была не из тех, кто сдаётся. Справившись, взглянула на часы, до начала съёмки оставалось ещё шесть часов. Люба вышла из ванной комнаты, и через минуту вернулась, держа небольшую пилу со сверкающим лезвием, которое с лёгкостью вгрызлось в безжизненно свисающую руку Алексея. Люба прикрыла ладонью глаза, опасаясь того, что кровь хлынет фонтаном как в кино, но вместо этого, вязкая, почти чёрная субстанция, медленно вытекла из разреза и поползла вниз по белоснежной поверхности ванны.