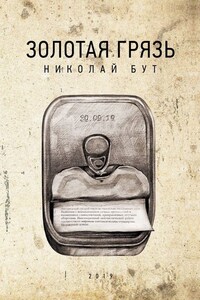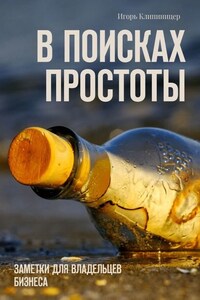Дождь сошел с ума. Первые два дня он буйствовал, как школьник после сдачи самого сложного и нелюбимого предмета. Потом приустал, уже сам был не рад, что начал показывать свой характер, но отступать не хотелось. И он шел, шел уже по инерции, жалкий, неприкаянный, похожий на серую тощую мокрую кошку.
Я не сердилась на дождь. Я понимала его, но радости это ни мне, ни ему не приносило. Мы оба были одиноки и упрямы, и замкнуты в своем одиночестве, а общего, что объединило бы нас, не находилось. Да мы, в общем-то, и не искали: каждый существовал сам по себе и даже, сквозь тоску, неудовлетворенность и жалость, чуть-чуть любовался собой.
Писем не было уже двенадцатый день. И эта последняя фраза: «Я очень верю тебе. Даже больше, чем себе самому». И дождь, и срочный перевод с немецкого, который я знаю на уровне «хенде хох»… Как обычно – все неприятности сразу.
На улице, посреди тротуара, стоял парень. Все прохожие бежали под зонтами, зябко вздрагивая, нахохлившись, а он был даже без плаща. Стоял, засунув руки в карманы, крепко упершись ногами в тротуар. Казалось, что находиться под дождем для него так же естественно, как растворяться в лучах солнца, нырять на большую глубину, с разбегу бросаться в сугроб пушистого и теплого снега. Он не пытался спрятаться под деревом, не отряхивал перышки, не прятал голову под крыло, а держал ее высоко. И это было красиво.
Ждал кого-то? Возможно. Но точно не меня. А жаль.
А потом я встретила Ромашку. Странно: мы живем в одном городе, в соседних районах, а видимся так редко. Вспоминаю я о нем довольно часто, но встречаю всегда неожиданно, а после мы опять расстаемся, и на прощание он говорит: «Ну что, опять на год?». А я отвечаю: «Ты не пропадай, хоть иногда звони». – «Обязательно. Ты тоже».
И всё. До следующего года.
Ромашкой мы звали его еще в школе. Это было производным не от фамилии, а от имени – Роман. Никакого сходства ни с каким цветком в его крепкой фигуре и крупных чертах лица не прослеживалось, но когда я увидела его, новичка, первого сентября в девятом классе, он почему-то напомнил мне одуванчик. У него были прекрасные золотисто-русые волосы (теперь они сильно потемнели); не стриженные все лето пушистые кольца падали до бровей, закрывали шею, отражали солнце и буйствовали… Но сам парень не был красив. Очень широкие плечи скрадывали довольно высокий рост, а массивные очки утяжеляли лицо. Глаза его я разглядела гораздо позже. Как и волосы, они были удивительными: от темно-синих до ярко-зеленых, в зависимости от освещения и настроения. А иногда – свинцово-серые. Но тогда я не могла в них смотреть.
И еще – губы. На четком, уже сформировавшемся лице – нежные, пухлые, розовые. При первом взгляде на них у меня мелькнула странная мысль: наверное, если он поцелует девушку, ему будет больно.
Он привлекал меня – нестандартностью и одаренностью. Отлично знал химию (я же в ней не разбиралась никогда); мог справиться со сложнейшей задачей по математике и не решить самую простую, если она казалась ему неинтересной. Когда пришел в наш класс, делал до сорока ошибок в диктантах, очень много и бессистемно читал, но поэзию всерьез не воспринимал. А школу окончил с пятеркой по русскому (это у нашей-то уникальной русички!), с огромным уважением к стихам и с любимым поэтом, Есениным – не «гулякой и скандалистом», а страдающим и любящим человеком. Ромка отлично рисовал – это было у него таким же средством самовыражения, как речь. Но он сам даже не подозревал, как хорошо у него это получается. Бросал все, что давалось ему легко. И я думаю, что от своего плаванья (в 14 лет – кандидат в мастера) он отказался именно поэтому, а не из-за нехватки времени.