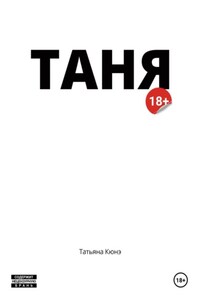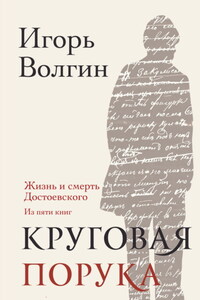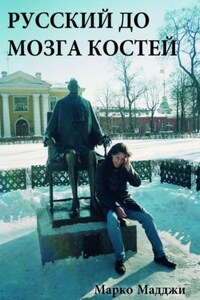Александра Гавриловна была моей бабушкой по материнской линии, и все звали её по-деревенски, Бабшурой, хотя мне всегда нравилось имя Александра, без всяких вот этих Шур и Шурочек.
Родилась она в далёком 1906 году в Рязанской губернии в семье зажиточных крестьян, которых потом тотально раскулачивали и пускали по миру. Если в семье была скотина, тёплый рубленый дом и сундук с фуфайками на «рыбьем меху», то всё: ты кулак и жизнь твоя больше не будет лёгкой.
Выдали Бабшуру замуж рано, не по «любо́ви», а из «расчёту»: добро к добру. Деда Григория, её мужа, я не знала, его убили в Великую Отечественную Войну где-то под Курской дугой, и Бабшура до конца своих дней хранила в допотопной шкатулке старый, потрёпанный временем треугольник последнего его письма, маленькую фотографию, где тот был похож на узника Освенцима, и документ, в котором говорилось, что рядовой солдат Мелешин Григорий пропал без вести. Народилось у них четыре дочери, что по тем временам было далеко не пределом. Самую младшую, Маню, во время войны Бабшура случайно обварила кипятком из громадного котла, и девочка умерла. Средней дочерью была Катюня, моя мать.
Бабшура была очень набожной, как сейчас говорят, воцерковлённой. Она почти каждый день ходила в церковь, читала молитвы и Библию, заботливо обёрнутую в бумагу. Домашний иконостас в углу комнаты она никому не доверяла и всегда сама за ним ухаживала: меняла кружевные салфетки, протирала пыль, убирала огарки свечей. Лампада горела у нас практически круглосуточно, и необычный запах ладана я помню с детства. А ещё Бабшура имела коричневого цвета матерчатый поясок с молитвой «Отче наш», на котором буквы были написаны бронзовой краской. Она его обматывала вокруг живота и без него на улицу вообще не выходила, мало ли… Пояс хранил Бабшуру от сглаза, порчи и прочих катаклизмов. Однажды её сбила легковая машина на пешеходном переходе, но всё обошлось парой синяков и шишек. «Это меня Николай Чудотворец спас, Танька, и пояс на животе, знай!» – говорила она мне со слезами на глазах и молилась ещё пуще прежнего.
Жизнь у Бабшуры была тяжёлая, как и у большинства деревенских, приехавших после войны «по лимиту» в столицу на заработки. Люди ещё жили в «землянках», работали на тяжёлых работах и мечтали о светлом будущем – не для себя, так хотя бы для детей или внуков. Элементарной грамоте Бабшура была обучена каким-то пьющим деревенским дьяконом. Он научил её только читать по слогам и ставить крестик вместо подписи, а позднее крестик уже трансформировался в корявую подпись.
Я родилась, когда Бабшуре было уже до хера лет, но она ещё работала в какой-то жуткой кочегарке на Заводе имени Лихачёва, носила грязно-засаленный передник непонятного цвета, забирала волосы под косынку на манер знатных советских ткачих и натягивала неизменные чёрного цвета калоши на шерстяные носки. Вот в ту кочегарку она меня однажды и повела: завод-гигант, кормилец тысяч семей, для Бабшуры был важнее Кремля, и его обязательно надо было увидеть. Сама площадь завода: грязные заводские закоулки с вечно не просыхающими лужами, какие-то бесконечные цеха, дымящие трубы и узкая страшная металлическая лестница в её кочегарку – произвела на мою детскую психику неизгладимое впечатление. Я как-то моментально для себя решила, что работать там я бы не хотела, и даже её резонное замечание, что работникам завода дают «квартеры», меня не вдохновило. А ведь именно Бабшуре в конечном итоге повезло: за её многолетние мытарства на ЗИЛовской кочегарке и дали сначала комнату в коммуналке, а потом и отдельную, со всеми удобствами и громадной кухней, двушку в новостройке на юго-востоке Москвы, где в начале восьмидесятых годов ещё можно было увидеть пасущихся коров и поля, засаженные капустой.