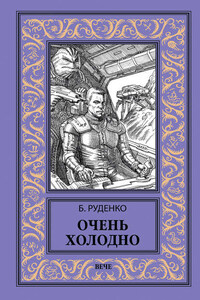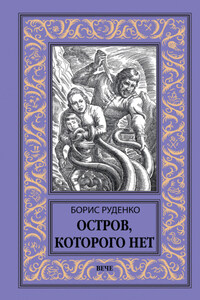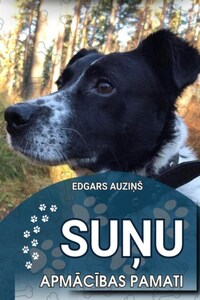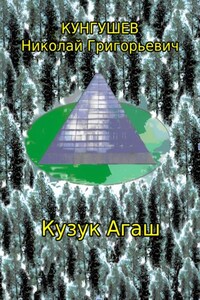Игнатьев проснулся от щемящего чувства тоски и несколько минут лежал с закрытыми глазами, снова и снова переживая увиденный сон. Этот сон повторялся все последние четыре года примерно раз в три-четыре месяца. Сюжет всегда оставался неизменным, сопровождаясь лишь небольшими вариациями. Ему снилось, что они встретились с Жанной. Случайно, на улице, словно едва знакомые, абсолютно далекие друг от друга люди. За ее вежливостью было лишь равнодушие, а он, напялив в ответ ту же равнодушную маску, скрывал за ней боль. Они говорили о чем-то незначащем, навсегда оставшемся в прошлом и уже полузабытом; ему хотелось спросить ее совсем о другом, но он не смел, оттого что предвидел, каким будет ответ. Потом она уходила, небрежно попрощавшись, а он смотрел ей вслед, точно зная, что это навсегда…
Сон закончился, но тоска теперь останется с ним до конца дня, постепенно затихая, вытесняясь реальностью в отдаленные уголки памяти, чтобы вновь вырваться оттуда в положенный час, когда уснувший мозг утратит контроль над подсознанием.
Игнатьев отбросил одеяло и одним движением поднялся, стряхивая остатки дремоты. Утро оказалось серым – совершенно под стать настроению. Порывистый ветер бросал в стекло дождевые капли, в комнате было сумрачно и неуютно. После секундного колебания Игнатьев поддался слабости отказаться сегодня от привычного комплекса утренних гимнастических процедур. Только вяло помахал руками, потом поставил на плиту чайник и забрался под душ. Плескался он довольно долго: вода в чайнике успела выкипеть наполовину, заполнив кухню влажным теплом. Впрочем, оставшейся вполне хватило на кружку кофе.
Он успел сделать всего пару глотков, когда в дверь позвонили. Потом, после совсем короткого перерыва, еще раз. Игнатьев поперхнулся, направился было к двери, но обнаружил, что до сих пор из одежды на нем всего лишь трусы. Пока он искал и натягивал спортивный костюм, звонок звенел почти не переставая, а Игнатьев ругался все громче. Сегодня он никого не ждал и скорее по привычке, чем из реального ощущения опасности, положил на столик рядом с входной дверью короткую тяжелую дубинку.
Тусклый свет на лестничной площадке не позволял разглядеть через глазок лица гостя, и Игнатьев грубовато спросил:
– Кто?
– Сергей! Открой, пожалуйста!
К сожалению, он узнал голос секундой позже, чем распахнул дверь, иначе бы этого, скорее всего, не сделал. Это был Малецкий.
– Ты?
– Я. Здравствуй. Можно мне войти?
– Что тебе нужно?
– Ты разрешишь мне войти?
Игнатьев медленно посторонился. Не отступил назад, а просто повернулся на пол-оборота, так, что гость вынужден был протискиваться боком, вплотную к нему, глаза в глаза. Вошел, и бросил мокрый зонт на столик, поверх дубинки, даже ее не заметив.
– Проходи на кухню, – сказал Игнатьев, захлопывая дверь.
Он понял, что должен побороть всплеск неприязни. Довольно глупо показывать ее сопернику, безоговорочно победившему четыре года назад. Помешал сон: кабы не этот сон, Игнатьев бы справился со своими чувствами быстрее. Но какого черта Малецкому здесь надо!
– Понимаю, ты удивлен, – торопливо начал Малецкий, даже не успев сесть на стул. – Я бы сам на твоем месте удивился.
Он нервно хохотнул и тут же смолк, словно испугавшись своего смешка.
– Боже мой, о чем я говорю! Извини. Сядь, ради бога. Ты можешь сесть?
– Зачем. Ты. Ко мне. Пришел? – отделяя слово от слова, произнес Игнатьев.
– Мне нужна твоя помощь, – ответил Малецкий, и теперь уже рассмеялся Игнатьев.
– Не смейся, – жалобно попросил Малецкий, и сам этот тон для него был настолько неожиданным, что Игнатьев умолк.
– Ты можешь говорить что хочешь, ты можешь поступить как угодно, но сначала выслушай.