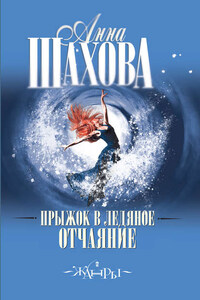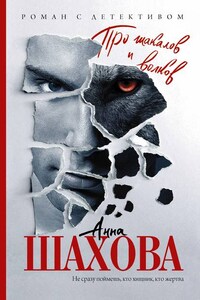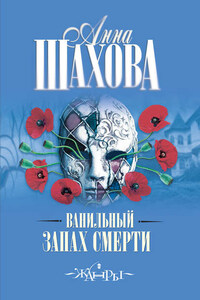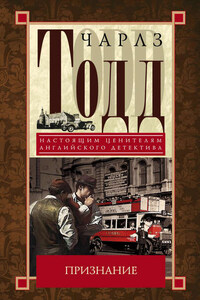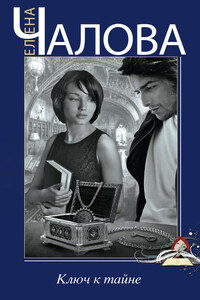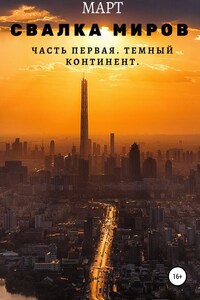Юлия Шатова (для своих – Люша, потому что изящную златовласку с обезоруживающей улыбкой и решительным, цепким взглядом зеленых глаз так называл муж, сократив слащавую «Юлюшеньку» до звонкой «Люшки») в благостной дреме лежала на диване у телевизора. Вымотанная за день «рассадными» хлопотами, уборкой, стряпней и топтанием в гипермаркете, она могла расслабиться наконец, по-щенячьи уткнувшись в плечо своего мужа. Саша Шатов отличался корпулентностью, незлобивостью и редкостной красотой: античный профиль, голубые глаза «невозможного разреза», силища в мастеровитых руках немереная. А голос! Глинтвейн в февральский промозглый вечер, а не голос… Телефонный звонок бесцеремонно разрушил супружескую идиллию. Люша – дама, обладающая редкой интуицией – с замершим сердцем снимала трубку. Сопение, всхлипы и затем протяжный вой, который услышал даже приникший к экрану Шатов, заставили Сашу мгновенно выключить телевизор.
– Что, Света, что?! – пыталась докричаться до подруги Люша.
– Ка…Ка…Калистрата умерла-а…
– Какая Кали..?
Люша не успела договорить, как Светка прокричала, задыхаясь:
– Инокиня Калистрата! Прошлой ночью… Позвонила только что мать Нина… келейница Никаноры… Похороны на третий день… Сердце… А мать Нина говорит – чушь, чушь!!! – Светка взвыла так сильно, что Люша отдернула трубку от уха. – Убили ее! Убили, Юль, понимаешь? Я уверена… А казначейша, мать Евгения, она ведь хотела Калистрату по лавкам попросить поездить, по-тихому, – так Евгения сама чуть не померла от испуга, самой «cкорую» вызывали. Мать Нина, с которой Калистрата буквально в вечер смерти советовалась, с допросом к Евгении – та отпирается: «Все в порядке, оставьте, ради Христа», и не выходит из кельи… и «cкорую» ей… а Нина… – Светка закашлялась и потом еще долго, трубно сморкалась. Успокоившись, продолжила рассказ уже тихим, севшим голосом. – А Нина говорит настоятельнице про воровство, про расследование – та слышать ничего не слышит – «воля Божья». А разве убийство может быть волей Божьей, Юль, может?! – Светка в изнеможении замолчала. Даже сопения не было слышно.
– Я не понял ни одного слова. И не разобрал ни одного имени, – пытался вступить Саша, но Люша решительно прижала свою ладошку к мужниным губам.
– Ты права. На Бога надейся, а сам… сволочью не будь. Это пускать на самотек нельзя. Невозможно. Час на сборы, и я у тебя, Свет. Завтра едем вместе в эту твою треклятую обитель. – Помолчав, Люша сочла нужным добавить: – Прости Господи.
Упаковывая дорожную сумку, она вспоминала все подробности утреннего разговора со Светкой. Телефон зазвонил в самый неподходящий момент! Шатова попыталась бармалейской гримасой присмирить писклявую трубку. Настырная пиликалка оторвала ее от кропотливейшего занятия – пересадки (правильнее сказать – пикировки) рассады томатов. Учитывая темперамент и (стыдно признаться) – катастрофически развивающуюся дальнозоркость, – выковыривание зубочисткой из молочных пакетов с землей хилых стебельков, укорачивание микроскопического центрального корешка и ввинчивание задохликов в пластиковые стаканчики с особой, Люшиным способом приготовленной почвой, превращалось в жесткую дрессировку усидчивости. По окончании процедуры кухонный стол и прилегающие к нему территории по количеству жидкой грязи были вполне пригодны к выращиванию дождевых калифорнийских червей – кстати, на это выгодное, но мало эстетичное предприятие пока никак не могла решиться деятельная агрономша-любительница. Смелая трубка хозяйской гримасы ничуть не устрашилась: она и не в таких «образах» видала свою артистическую командиршу – и воспиликала еще требовательней. «С утра пораньше может названивать только лучшая подружища – Светка, чтоб ей… здоровья побольше!» – Люша сорвала наконец с рук перепачканные перчатки и оглушила телефон высоким: