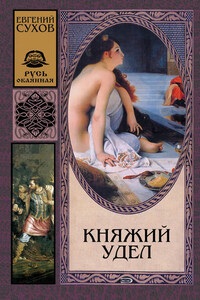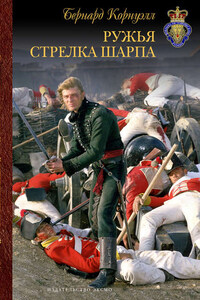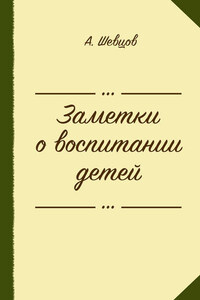– Отворяй ворота! – громко стукнув чугунным кольцом в калитку, прокричал великовозрастный детина. Ветер терзал полы его длинного кафтана, которые то и дело отирали заляпанные грязью голенища. – Негоже государевым посыльным на дворе дожидаться.
– Сейчас, родимые, – послышался из-за стены голос монахини-вратницы. – С обедни уже дожидаемся. Как вчерась государь-батюшка весточку послал, так и ждем вас, глаз не сомкнем.
По-особенному ярок был нынешний грозник.[1] Едва солнце скроется за горизонт, а уже обживают небо зореницы, вспыхивая огромными кострами. Но ярче всего полыхала Стожар-звезда, напоминая чудный цветок с красными лепестками, растущий в самой глухомани древнего леса. И цветок этот способен наказать всякого, кто без надобности бьет дикого зверя и топчет колдовскую траву.
А потому к Стожару относились с особой почтительностью: едва вспыхнет звезда, как мужи, сняв шапку, отвешивают глубокий поклон, опасаясь, что она сорвется с черного покрова неба и свалится неразумному за шиворот. Вот тогда непременно жди беды: либо задавит насмерть, либо возгорится упавшая звезда и спалит дотла избу.
Детина глянул на небо, отыскал звезду Стожар и, мысленно попросив удачи в необычном деле, прикрикнул на возничего:
– Чего застыл? Али особой милости дожидаешься? Въезжай в монастырь!
– Но, пошла! – поторопил кобылу совсем юный возничий, и каптана,[2] кособочась, въехала в распахнутые врата монастыря, громко стукнувшись жестким ободом о край ямы. – Чтоб тебя язва взяла, старая! – Длинный, в три хвоста, кнут опустился на широкую спину лошади.
– Игумен-то где? – окликнул вратницу детина. – Сказано ему было, чтоб у порога встречал и поклон отбивал до самой земли. Не каждый день такая гостья жалует!
– Здесь я, батюшка. – Владыка признал в детине конюшего.[3] – Который час жду. Едва в келью прошел, а тут стук за воротами.
– Смотри у меня! – на всякий случай погрозил боярин. – Сам хочу взглянуть, где твоя гостья жить будет. Показывай келью.
– Как скажешь, Иван Федорович. Как только государь наш Василий Иванович гонца с известием прислал, так мы сразу для матушки место подобрали. Подле меня жить будет, – пообещал игумен, – а я-то уж присмотрю за государыней. А вы, монахини, Соломониду Юрьевну под руки ведите.
Игумен поднял фонарь, тот полыхнул яркой зарницей и осветил дорогу в мурованную[4] келью.
Каптана, громыхая расшатанными осями, въехала на монастырский двор и остановилась. Громко скрипя, распахнулась настежь дверца, и, повязанная до самых глаз черным платком, на булыжник сошла женщина. В ее прямой осанке и в горделивой походке чувствовалась порода, и старицы,[5] не избалованные посещением знати, согнулись перед нею так низко, будто встречали самого митрополита.
Инокини бросились к гостье, пытаясь поддержать ее под руки, но женщина, строго глянув на них, изрекла:
– Путь к темнице я уж как-нибудь сама отыщу. – И уверенно зашагала по узенькой тропе в сторону монастырских строений.
Трава благоухала. Запахи мяты и полевых ромашек наполнили воздух, и его аромат напоминал хмельной напиток, который способен будоражить желания, неуместные в женском монастыре.
– Он меня еще узнает, – зло шипела Соломонида, с каждым шагом приближая свое заточение.
– Матушка, – у дверей ее будущего пристанища стоял конюший, – келью с твоим теремом не сравнить, но это куда лучше, чем темница.
– Посмотрим, боярин.
Маленькая красивая голова отставной государыни была упрятана под темный капюшон, подобно тому, как яркая гусеница прячется в безликий кокон. Соломония развязала огромный узел на затылке и выпустила на свободу упругие пряди густых шелковистых волос. Даже сейчас, когда молодость ее была уже позади, великая княгиня не растеряла привлекательности, а в ее очах еще не угас огонь страсти, который, казалось, был куда ярче пламени, бившегося в фонаре инокини.