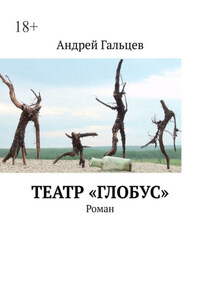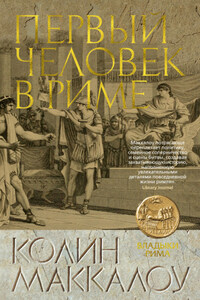– Крат, я больше не могу, пойдём сдаваться в «Глобус», – обратился к товарищу Дол, позорную кислоту этих слов маскируя беспечностью.
– Что там, Шекспиром пахнет? – съязвил Крат.
– Пахнет едой, – признался Дол и тотчас добавил: – К тому же я хочу работать, я тоскую по сцене.
– Ветреный ты человек, – покачал головой Крат, оторвавшись от починки штанов, которые лежали на его голых коленях. – Ты не далее как вчера заявлял: «Глобус» это помойка. Но вот желудочный сок надавил на тебя, и ты готов сдаться. Ещё назови его храмом культуры!
– Ни за что! Это вынужденный ход. Я всего лишь актёр. Ну не вышло из меня лифтёра, не задалось! Я, наверно, рассказывал тебе…
– Не наверно, а много раз, – сухо поправил Крат.
– Значит, тебе известно про гаечный ключ, который выпал из моей руки и с высоты пятого этажа приземлился бригадиру на темя. Стоп-карьера! Хорошо – не посадили.
Актёр, чьё сценическое имя Долговязый сократилось до игрушечного Дол, играл лицом и строил взоры. Своего друга, чей псевдоним Краткий был сокращён до хрустящего Крат, он старался отвлечь от проблемы выбора между совестью и сытостью.
– Так сложилась моя судьба, да, такова судьба, – Дол раскинул руки. – Судьба, Крат! Она вокруг меня. А внутри меня – желудочный сок. А я между ними, как между молотом и наковальней. Куда же мне прикажешь деться?!
– Интересный вопрос, – перекусив нитку, заметил Крат.
– Поэтому я должен… я всю ночь думал и понял, что я просто обязан считаться с этой подлой объективной реальностью, чтобы, по крайней мере, не сдохнуть, – так завершил своё оправдание Дол.
Он говорил с искрой того маленького дрессированного вдохновения, что навсегда поселяется в актёре и легко зажигается, лишь коснись драмы артиста, одиноко стоящего на планете без достойной награды.
Крат, опустив лицо, скрыл почти материнскую улыбку и вправил новую нитку в иглу.
– Дол, когда тебе надо оправдаться, ты сущий философ, а когда просто подумать о чём-либо, ты некумека!
– Прошу зубы мне не заговаривать, – огрызнулся Дол. – Итак, я иду ангажироваться.
– Вспомни про главного режиссёра, там же Дупа сидит – змей в пещере, подлец и людоед, – взмолился Крат.
– Ну и пусть, – Дол махнул длинной рукой, но всё же напоследок застрял в двери, обернулся. – Ответь-ка мне на принципиальный вопрос: если все стали бесстыжими, ты должен стать бесстыжим, ну хотя бы капельку?
– Нет, – ответил Крат.
– А для того, чтобы эти бесстыжие обратились к лучшему, ты согласен поработать на сцене?
– Наверно, – сказал Крат, не успев подумать.
– Так вот пойдём и поработаем, – обрадовался найденному аргументу Дол.
– Да сволочь он отпетая, – не сдавался Крат, оценивая отремонтированный шов на просвет.
– Ну и сиди тут, гляди в небо через портки!
Дол решительно вышел из больничной котельной, где они проживали. Поначалу они здесь ещё и работали – топили газовый котёл, но в День мягкой игрушки, когда вовсю расцвёл апрель, веющий золотистым теплом, печь отключили. Лишь по милости больничного завхоза друзья пока ещё оставались на установленных здесь больничных койках. Милость и терпение завхоза объяснялись тем, что он считал себя поклонником театрального искусства. Но всё же друзья давно не поднимались на подмостки – длилась творческая пауза, и завхоз, преданный музам, наглядно мрачнел. Он всё суше здоровался с ними и в последнее время едва кивал. На их тёплые, прищуренные, заискивающие приветствия завхоз отвечал скупо, с одолжением. В общем, друзья осознали скоротечность своего пребывания в обжитой котельной.
К данному часу они уже более суток ничего не ели. На утренней заре оба лежали и слушали, как плотскими голосами беседуют их желудки. Сколько такое можно слушать?! В полдень широким шагом голодного пролетария, созревшего для революций или решительных унижений, Дол отправился в ненавистный «Глобус», к страшному главрежу Дупе – проситься на роль.