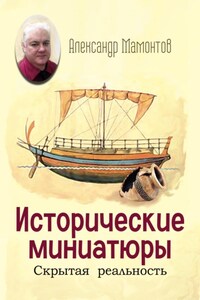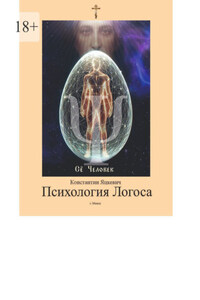Порою все вещи больше самих себя, ибо сквозь них светит тайна.
К.С. Льюис
Среди корпусов университета, в котором я работаю преподавателем философии уже более двадцати лет, есть один, который я называю порталом. Через это ничем не примечательное здание проходили и проходят многие студенты и преподаватели, совершенствуя свои профессиональные навыки, добиваясь успеха, совершая ошибки и стараясь их исправить. Кроме пространства профессионального роста корпус становится местом знакомства людей друг с другом, обретения крепких личностных связей, настоящей дружбы и настоящей любви.
Но как это происходит? Почему десятки и сотни людей проходят мимо друг друга, не задевая души, не меняя жизни, но встреча с одним из них однажды становится особенной, изменяющей все? Как обычное здание становится местом встречи? Почему в какой-то момент оно как бы перерастает само себя, давая место тайне? Так однажды и для меня это здание, один из множества корпусов в одном из множества университетов, стало чем-то большим, чем здание, стало местом встречи с человеком, изменившим мою жизнь. Я не знаю, как объяснить этот опыт перерастания предметами самих себя, но я не могу сомневаться в нем. Он является одним из самых достоверных, неоспоримых приобретений моей жизни. При этом я уже слышу в глубине моего разума голос скептика – ««просто» корпус, «просто» человек, «просто» встреча – какая же может быть в этом тайна?».
Пожалуй, есть в описанной ситуации нечто, напоминающее полемику между верующим и неверующим человеком. Первый повествует о переживаемой им вере как об «осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом» (Евреям 11:1), в то время как второй искренне недоумевает, о каком еще «видении невидимого» идет речь? Хотя в обыденном языке и закрепилось выражение «слепая вера», но, если обратиться к словам апостола, вера представляется в них особым зрением и ни в каком смысле не может быть названа слепой.
Как писал известный французский философ Александр Кожев, расхождения между теистом и атеистом, в конце концов, сводятся к наличию у первого и отсутствию у второго некой теистической интуиции. Опираясь на нее, теист прозревает за пределами мира эмпирического мир духовный. Атеисту же такое прозрение не доступно – не дано. «С точки зрения теиста, – писал А. Кожев, – атеист слепой, дефективный человек, который не видит того, что должно быть всем и ему самому очевидно: атеист не видит Божественное точно так же, как слепой не видит красок. Для теиста Бог несомненно реален, реален более или, во всяком случае, не менее, чем окружающий его мир. И он не только реален для абстрактной мысли (или для веры по откровению или авторитету), но и непосредственно дан как таковой (с большей или меньшей степенью совершенства) в живой интуиции всякого нормального человека»1.
Атеист же, в свою очередь, пытается доказать теисту, что его интуиция есть всего лишь болезненная иллюзия, искажение реальности, «антропоморфизм в широком смысле»2. Однако по существу ему нечего противопоставить убеждениям теиста. В противовес положительному теистическому утверждению он может предложить не другое положительное утверждение, но лишь утверждение отрицательное. «Атеист думает, что ему «дано» ничто вне мира, на самом деле, ему только не дано Божественное, а он «онтологизирует» эту неданность»3.
В итоге можно констатировать, что противостояние теизма и атеизма представляет собой одно из самых неразрешимых противоречий культуры. Все возможные аргументы с той и другой стороны, в конце концов упираются в стену – «данности» и «неданности» Божественного в опыте того или иного конкретного человека. Каждой из сторон хотелось бы сформулировать аргументы неоспоримые и окончательные, навсегда разрушающие доводы оппонента. И определенного успеха на этом пути достигли обе стороны. Но что в действительности могут значить для человека даже самые убедительные аргументы, если они противоречат его опыту, его ценностям и личностным ориентирам?