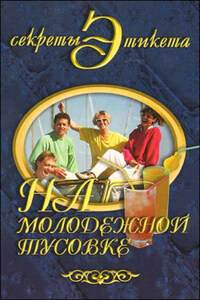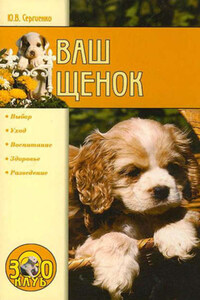Глава первая. Мудрость глупцов
Сегодня величайшим злом, величайшим разрушителем в мире является аборт.
Мать Тереза
Виктор мать его Громов сидел, развалившись в кресле, как клиентура абортариев. Думал он том, что впервые в жизни в такое позднее время он был трезв, как повивальные бабки при родах. «Надо бы за это выпить», – угрюмо подумал он, взяв со стола бутылку бренди. Громов налил себе в стакан и хлебнул с горла. Он не пытался заспиртовать свою боль, которой в общем-то нет. Он прожигал свою жизнь, которой скажут, что нет.
Виктор застенчиво оглянулся по сторонам. На одной из стен пентхауса на вершине башни Gromov Building висел портрет Иосифа Джугашвили. Громов пристально смотрел в его пустые глаза, думая о человеке, который посмел повесить это слабоумие на его утонченное рококо. Он взял стакан с налитым бренди и запустил его прямо в цель – портрет сорвался со стены под характерный звон стекла.
Затем Громов вспомнил, что сам орудовал молотком в тандеме с лобзиком. Или это был тромбон? Да, впрочем, ему было всё равно. Сквозь свои годы он так успешно материализовался в мире анекдотом, что стал гнуснейшей шуткой сам на сей общественный дурдом.
Диагностированных шизоидов довольно много. У Громова были причины полагать, что недиагностированных гораздо больше. Пока нацисты качали тяжелую воду, этот необразованный марксист под образованными знамёнами мистера “не марксиста” размашисто расписывался в собственном малоумии – он запрещал аборты, хитроумно удумав, что узнай его мать, какое именно недоразумение станет её единственным наследием, вторая мировая драка нещадно занятных дементных приматов закончилась бы где-нибудь в приёмной тех же абортариев. Анизотропия по направлению времени, видимо, выпала из того же неповторимого разумения. Но, к счастью, эта Вселенная действительно “насквозь этична”. И того лучше – иронична. Сама История в итоге сделала аборт.
Виктор попытался взять стакан, которого нет. И это оказалось затруднительно для жизни, как сама жизнь после аборта. Он хлебнул с горла.
«Странный день», – подумал Громов. Вообще-то стояла глубокая ночь. Лунный свет тонкой пеленой покрывал его золотистые волосы, а ядовитые зелёные глаза искали опору для новой цепочки ассоциаций. Ночь навела его на день. А день навёл его на скуку.
Он встал в шесть утра. Почистил зубы. Чуть было не подавился куриной косточкой. Подумал: зачем вообще он чистил зубы до еды? Затем он вновь почистил зубы. Спустился в офис. Обозвал трёх экономистов заплаканными очкариками. Заключил новый наркоконтракт с колумбийскими головорезами. Совершил поставку оружия заплесневелому диктатору в какой-то заднице Вселенной. Публично назвал президента своей секретаршей. Поручил премьеру постирать свои носки. Вернулся домой. Составил компанию Сталину. И расклеился как девчонка. В общем-то обычный день в нормальной стране без этих поганых Диснейлендов. По крайней мере не так скучно, как в каких-нибудь Парижах или же столицах Франции.
Впрочем, сам он был тем еще шизоидом. И конечно же недиагностированным. Он едва ли выносил жизнь, не ходя по её краю, иначе бы давно обосновался в каких-нибудь Парижах или же столицах Франции. По крайней мере в теории, которую он не любил.
Мысль, не имеющая никакого материального воплощения, не трогала его душу, которую, впрочем, он заложил. Вернее, попытался. Отчаянно и абсолютно. Виктор мать его Громов с едва ли выносимой горечью узнал, что это так же затруднительно для жизни, как сам аборт после аборта. Ох уж этот Сеченов! Громов хлебнул с горла.