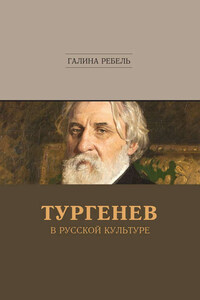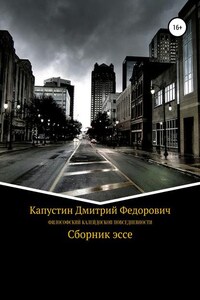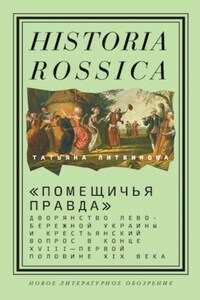В работе о Толстом и Достоевском, в связи и по контрасту с этими гениями безмерности, Д. С. Мережковский писал о Тургеневе: «В России, стране всяческого, революционного и религиозного, максимализма, стране самосожжений, стране самых неистовых чрезмерностей, Тургенев едва ли не единственный, после Пушкина, гениймеры и, следовательно, гений культуры. Ибо что такое культура, как не измерение, накопление и сохранение ценностей? В этом смысле Тургенев, в противоположность великим созидателям и разрушителям Л. Толстому и Достоевскому, – наш единственный охранитель, консерватор и, как всякий истинный консерватор, в то же время либерал»1.
Формула Мережковского отражает все стороны личности и творчества И. С. Тургенева.
Разносторонняя и при этом глубокая образованность, уникальный художественный дар, масштабность личности, интеллектуальная мощь и интеллектуальная свобода, социальная интуиция, просветительская энергия при содействии судьбы, в которой неразрывно сплелись Россия и Западная Европа, – все это обеспечило Тургеневу особое – срединное, стержневое – место в русской культуре.
Он был связующим звеном, центром притяжения и точкой отталкивания, предметом восхищения и объектом зависти, вдохновителем и раздражителем, властителем дум и непримиримым оппонентом многочисленных великих и рядовых своих современников. Самый модный, самый читаемый писатель своего времени, Тургенев был великим художником, проторившим свой собственный путь не только в русской, но и в мировой литературе, – сочетание уникальное, ибо «модный», как правило, – не вершинный, не совершенный, а усредненно-завлекательный, «суррогатный» и именно потому востребованный большинством; в данном же случае «модный» – одновременно элитарный, изысканный, недосягаемо совершенный.
Ощущение неуловимой и в то же время несомненной эталонности тургеневского письма сформулировала в 1874 году, по прочтении рассказа «Живые мощи», Жорж Санд: «Tous nous devons aller á l’ecole chez vous»: «Мы все должны идти к вам на выучку»2. О том же, но с другим, раздражительным, оттенком говорит от лица русских собратьев по перу герой А. П. Чехова: «И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо – больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: “Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева”».
Писать лучше Тургенева было действительно мудрено, тем более что кажущаяся простота, искусная безыскусственность письма в данном случае оборотной стороной своей имела глубину, сложность, многомерность смыслов, на поверхности текста обозначенных пунктиром, ажурной вязью намеков, ассоциаций, параллелей, недоговоренностей. Именно поэтому Тургенев, при всей своей хрестоматийности, до сих пор остается поверхностно прочитанным, недооцененным художником. Последнему обстоятельству в какой-то мере, по-видимому, способствовал он сам.
В 1856 году, еще до своих знаменитых романов, в письме к С. Т. Аксакову Тургенев объяснял: «Я один из писателей междуцарствия – эпохи между Гоголем и будущим главою; мы все разрабатывали в ширину и вразбивку то, что великий талант сжал бы в одно крепкое целое, добытое им из глубины; что же делать! Так нас и судите» [ТП, 3, с. 32]. Та же мысль практически одновременно выражена в письме к Л. Н. Толстому: «…Я писатель переходного времени – и гожусь только для людей, находящихся в переходном состоянии» [там же, с. 43]. По прошествии двух десятилетий, на пике уже не только российской, но и мировой славы, читаемый и почитаемый в Европе и США, ставший полпредом русской литературы на Западе и активным пропагандистом западноевропейской литературы в России, своему американскому корреспонденту, философу и теологу Генри Джеймсу Тургенев пишет: «Ваше письмо слишком уж лестно для меня, милостивый государь. Я, конечно, счастлив, что имею столь благосклонных читателей в Америке и горжусь вашим добрым отношением ко мне; но вы переоцениваете меня. Щекотливая штука – скромность; люди не верят в ее искренность, и они в общем правы: я надеюсь, что это не скромность, а точная оценка своих способностей говорит мне, что я не