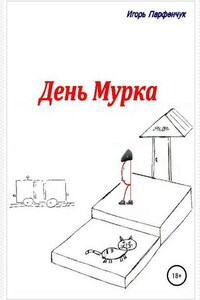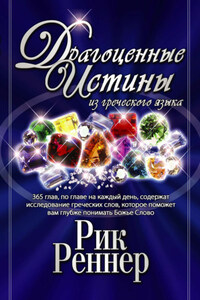В приказах гражданского ведомства было, между прочим, сказано: «Увольняется штатный смотритель эн-ского уездного училища, коллежский асессор Годнев с мундиром и пенсионом, службе присвоенными»; потом далее: «Определяется смотрителем эн-ского училища кандидат Калинович».
Прочитав этот приказ, автор невольно задумался. «Увы! – сказал он сам себе. – В мире ничего нет прочного. И Петр Михайлыч Годнев больше не смотритель, тогда как по точному счету он носил это звание ровно двадцать пять лет. Что-то теперь старик станет поделывать? Не переменит ли образа своей жизни и где будет каждое утро сидеть с восьми часов до двух вместо своей смотрительской каморы?»
В Эн-ске Годнев имел собственный домик с садом, а под городом тридцать благоприобретенных душ. Он был вдов, имел дочь Настеньку и экономку Палагею Евграфовну, девицу лет сорока пяти и не совсем красивого лица. Несмотря на это, тамошняя исправница, дама весьма неосторожная на язык, говорила, что ему гораздо бы лучше следовало на своей прелестной ключнице жениться, чтоб прикрыть грех, хотя более умеренное мнение других было таково, что какой уж может быть грех у таких стариков, и зачем им жениться?
Петра Михайлыча знали не только в городе и уезде, но, я думаю, и в половине губернии: каждый день, часов в семь утра, он выходил из дома за припасами на рынок и имел, при этом случае, привычку поговорить со встречным и поперечным. Проходя, например, мимо полуразвалившегося домишка соседки-мещанки, в котором из волокового окна[1] выглядывала голова хозяйки, повязанная платком, он говорил:
– Здравствуй, Фекла Никифоровна.
– Здравствуйте, батюшка Петр Михайлыч, – отвечала та.
– Давно ли из губернии воротилась?
– Вчерашним днем, сударь, прибыла. Не на конной, батюшка, подводе, пешком отшлепала по экой по грязи.
– Как дела-то идут?
– Дела мои, Петр Михайлыч, по начальству пошли.
– Ну, коли по начальству, так хорошо.
– Да хорошо ли, отец мой?
– Хорошо… хорошо… – говорил Годнев, идя далее.
Сказать правду, Петр Михайлыч даже и не знал, в чем были дела у соседки, и действительно ли хорошо, что они по начальству пошли, а говорил это только так, для утешения ее.
У каменного купеческого дома стоял кучер в накинутом на плечи полушубке, и его Петр Михайлыч считал за нужное обласкать.
– Что, брат, объездил ли лошадку-то? – спрашивал он.
– Нешто-с… выламывается поманеньку, – отвечал тот.
– Видел я… видел… Ты молодец… ловкий ездок!
Кучер самодовольно улыбался.
Мясную лавку, куда шел Годнев, купец только еще отпирал.
– Эге, Силиверст Петрович, поздненько нынче выплыл, – говорил Годнев.
– Что делать, Петр Михайлыч! Позамешкался грешным делом, – отвечал купец. – Что парнишко-то мой: как там у вас? – прибавлял он, уходя за прилавок.
– Что парнишко? Ничего, хорошо: способности есть; резов только; вчера опять два стекла в классе вышиб, – отвечал Петр Михайлыч.
– Фу ты, господи, твоя воля! – восклицал купец, пожимая плечами. – Что только мне с этим парнем делать – ума не приложу; спуску, кажись, не даю ему ни в чем, а хошь ты брось!
– Ну, зачем же? Чересчур не надобно: хуже заколотишь.
– Заколотишь его, пострела, как бы не так! – возражал купец и потом прибавлял: – Говядинки, что ли, прикажете отвесить?
– Да, сударь, хоть говядинки; смотри, только помягче.
– Неужели жесткой! Худой вам не отпустим… худое мы про генеральш здешних бережем.
– Ну, вот уж и про генеральш! Экой вы, торговый народ, зубоскалы!
– Право, так. Не знаем только, куда эта барыня с почтмейстером деньги берегут.
Петр Михайлыч только усмехался и качал головой.
Из мясной лавки он проходил во внутренность гостиного двора, где торговки торговали калачами, горшками, зеленью, нитками и разного рода другими припасами.