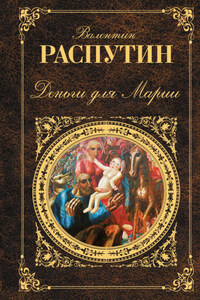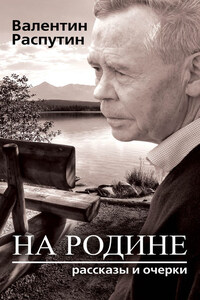Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах, но три года назад, оставшись совсем без силёнок, сдалась и слегла. Летом ей будто легчало, и она выползала во двор, грелась на солнышке, а то и переходила с роздыхом через улицу к старухе Миронихе, но к осени, перед снегом, последняя мочь оставляла её, и она по утрам не в состоянии была даже вынести за собой горшок, доставшийся ей от внучки Нинки. А после того как старуха два или три раза подряд завалилась у крыльца, ей и вовсе приказали не подниматься, и вся её жизнь осталась в том, чтобы сесть, посидеть, опустив на пол ноги, а потом опять лечь и лежать.
За свою жизнь старуха рожала много, но теперь в живых у неё осталось только пятеро. Получилось так оттого, что сначала к ним в семью, как хорёк в курятник, повадилась ходить смерть, потом началась война. Но пятеро сохранились: три дочери и два сына. Одна дочь жила в районе, другая в городе, а третья и совсем далеко – в Киеве. Старший сын с Севера, где он оставался после армии, тоже перебрался в город, а у младшего, у Михаила, который один из всех не уехал из деревни, старуха и доживала свой век, стараясь не досаждать его семье своей старостью.
В этот раз всё шло к тому, что старухе не перезимовать. Уже с лета, как только оно пошло на убыль, старуха стала обмирать, и только уколы фельдшерицы, за которой бегала Нинка, доставали её с того света. Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом, стонала, из глаз её выдавливались слёзы, и она причитала:
– Сколь раз я вам говорила: не трогайте меня, дайте мне самой на спокой удти. Я бы тепери где-е была, если бы не ваша фельдшерица. – И учила Нинку: – Ты не бегай боле за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди, а потом скажи: нету её дома. Я тебе за это конфетку дам – сладкую такую.
В начале сентября на старуху навалилась другая напасть: её стал одолевать сон. Она уже не пила, не ела, а только спала. Тронут её – откроет глаза, глянет мутно, ничего не видя перед собой, и опять заснёт. А трогали её часто – чтобы знать: жива, не жива. Высохла и ближе к концу вся пожелтела – покойник покойником, только что дыхание не вышло.
Когда окончательно стало ясно, что старуха не сегодня-завтра отойдёт, Михаил пошёл на почту и отбил брату и сёстрам телеграммы – чтобы приезжали. После этого растолкал старуху, предупредил:
– Подожди, мать, скоро наши приедут. Повидаться надо.
Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара. Ей добираться из района было недалеко, всего-то пятьдесят километров, и для этого ей хватило попутной машины. Варвара открыла ворота, никого не увидела во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:
– Матушка ты моя-а-а!
Михаил выскочил на крыльцо:
– Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберёшь сейчас всю деревню.
Варвара, не глядя на него, прошла в избу, у старухиной кровати тяжело стукнулась на колени и, мотая головой, снова взвыла:
– Матушка ты моя-а-а!
Старуха не пробудилась, ни одна кровинка не выступила на её лице. Михаил пошлёпал старуху по провалившимся щекам, и только тогда её глаза изнутри задвигались, зашевелились, пытаясь открыться, и не смогли.
– Мать, – тормошил Михаил. – Варвара приехала, погляди.
– Матушка, – старалась Варвара. – Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь. Матушка-а-а!
Глаза у старухи ещё покачались-покачались, словно чашечки весов, и остановились, сомкнулись. Варвара поднялась и отошла плакать к столу – где удобнее. Она рыдала долго, пристукивая головой о стол, зашлась в слезах и уже никак не могла остановиться. Возле неё ходила пятилетняя Нинка, пригибалась, чтобы заглянуть, почему Варварины слёзы не бегут на пол; Нинку прогоняли, но она, хитря, снова прокрадывалась и лезла к столу.