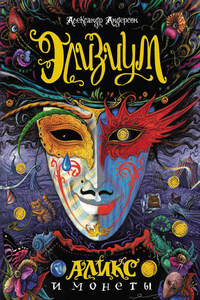Лето в том году настроилось в Великом Устюге не сразу. С весны надолго загостились холода. По ночам даже в мае все еще прихватывали заморозки, днем зависали мелкие, как туман, дожди, а с Ледовитого моря накатывало и накатывало стылую сырость. Дороги на Тотьму, на Вологду разбились, разухабились, да и окрестные проселки размякли настолько, что если приходилось запрягать, то стыдно было мужику перед лошадью.
И вот в эту-то расквашенную пору, когда на дорогах ни ямщика, ни богомольца, когда вся жизнь города купнилась на высоком левом берегу Сухоны, во фряжском ряду[1], когда гостей ждали только с моря на кораблях иноземных, вдруг с другой стороны, из Москвы, прибыл начальный человек с грамотой. Крытая лосиными кожами ямская[2] колымага[3] протащилась по Монастырской улице, свернула в переулок, выехала на набережную и остановилась у воеводского дома.
Ни лошади, ни ямщик не шевелились в первые мгновения, все еще не веря, что это конец пути. Но вот медленно откинулся полог, и заалели атласными вершками стрелецкие шапки. Позванивая кривыми саблями, кряхтя, молясь и поругиваясь, стрельцы толкнули в спину ямщика и следом за ним тяжело спрыгнули на землю. Тут же показалась голова стряпчего[4] Коровина. Трехнедельная дорога повытрясла из него московский жир: опал живот, щеки ямами ныряли под бороду, появились под глазами желтоватые мешки… Да-а, велика Русь, нелегка по ней дорога!..
«Вот он какой, Великий Устюг!» – думал стряпчий Коровин, держась одной рукой за поясницу, второй за колымагу, – он еще не доверял ослабевшим ногам.
За глухими заборами еще бухали собаки, растревоженные нежданной подводой, и все гуще становились грачиные стаи над просечной паутиной колокольных крестов. На набережной и в переулке, как и по Монастырской улице, по которой они только что проехали, тянулись сплошные заборы, где зеленея, где серебрясь лишайником старых тесаных полубревен. Выходили из ворот посадские люди, с тревогой смотрели на приезжих, не снимая шапок.