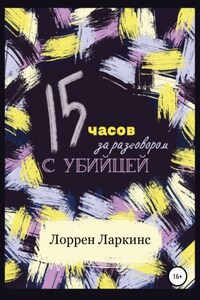Иван с Татьяной встречали утро на верхней полке сеновала. Сидеть на лавочке у двора, когда с вечера покрапывал дождь, промокнешь. А тут сухо и лежать на свежескошенной траве одно удовольствие, не уступает той же перине. В деревне от людских глаз не скрыться, все на виду. Те же родители осудят: молодые до свадьбы легли в постель без их благословения, грех большой…
Гнедой зафыркал, замотал гривой и стал просовывать голову в расщелину дощатой двери, пытаясь вырваться из конюшни, видя, как дед Самойл вывел на поляну молодую серую кобылку. Ременной конской путой проворно спутал у нее ноги и ладонью хлестко ударил по ее гладкой холке. Лошадка отпрыгнула, встала, почуяв гнедого, задрала морду, ответив ему конским ржанием.
– Вот сосед неспокойшина в такую рань коня вывел, по нашему околотку больше некому. А ты что приумолкла, боишься моих родителей. Пусть смотрят, что скрывать-то, если в воскресенье свадьба прилажена. – Иван с теплотой в голосе прошептал слова Татьяне.
Гнедой не успокаивался, копытами бил землю.
– Орлик, тэр! Ты чего раздухарился, щас у меня хлыста получишь! – вполголоса прикрикнул он на него.
Татьяна приподняла голову, прислушиваясь, сказала:
– У тебя отец строгий, вдруг зайдет, со стыда сгорю. Не дай бог еще отругает, скажет, не можете до свадьбы потерпеть. И что ему ответить?
– Он еще спит, как проснется, первым делом выходит на крыльцо покурить, услышим. Тань, а твои волосы пахнут цветами, буду называть тебя ромашкой.
– Хм, ромашкой, чудно! Это ты щас в чувствах говоришь ласковые слова, а как обживемся, начнешь заглядывать на молодых девок. У мужиков всегда так бывает, когда своя баба надоедает, щи вам свежие подавай. – Татьяна укорила его без злобы.
– Я не такой. Ты у меня в деревне всех красивее, что в деревне – на всем белом свете! Голос, как весенний ручеек журчит, ей-богу говорю.
– Скажешь еще на свете, свет он ведь большой. Третьего дня на вечерках попадья рассказывала, будучи в девках к ней парень сватался. Хвасталась, все бабы на него заглядывали, а замуж вышла за попа, сказывала, он в то время овдовел, матушка при родах померла. Взяла его горемычного и пожалела. – Татьяна с легким затягом вздохнула, – вон какая она, бабья доля, от судьбы, видно, не уйдешь.
– Судьба, скажешь еще! То-то я гляжу, уполномоченный в ваш дом зачастил, глазами на тебя так и зыркает. Того гляди сватов пришлет, а он и мизинца твоего не стоит. Люди про него нехорошее говорят, якобы по бабам ходок, еще властью прикрывается. Вот скажи, чего ему от твоего отца нужно, как в деревню наведывается, первым делом идет к нему, что других дворов ему мало? Еще петухом щеголяет в яловых сапогах, опоясавшись портупеей с сумкой наперевес. Бахвалится, нате вот поглядите, люди добрые, какой я есть отец ваш родной.
– Ревнуешь? А зря, повода не даю. Недавно на Троицу отец ему шкворень ковал, кошева у него сломалась, а тут ноне снова что-то случилось, целый день в кузне с ним провозился. Твой отец кузнец, а ему не помогает, а мой на все руки мастер, – высказала слова с бахвальством. – У уполномоченного в Куртамыше семья, а в волости там не забалуешь, все на виду, он же партийный, отец о нем так сказывал. Надо же такое сказать – свататься, не люб он мне, глазенки хитрые, бегают как у поросенка, еще и завистливый: хаит начальство, а сам на его место метит.
Татьяна поцеловала Ивана в щеку, продолжила уже мягким голосом:
– Что мы все про него да про него, нам о своей семье надо подумать. Не за горами забеременею и куда мы в одной избе с прирубом уместимся. Отец тебе что говорит, где нам место отведет – в горнице или, как ребятишкам, на полатях приладит? – спросила, одарив его улыбкой. – И куда вы бабушку Прасковею денете? А она у вас с гонором, начнет меня учить, как блины печь, старый он как малый. Да и тесно у вас, а в моем доме нам жить нельзя, люди судачить начнут, мужик к бабе под подол спрятался, – поглаживая русый чуб Ивана.