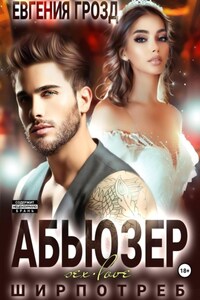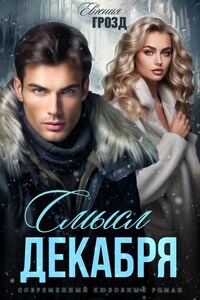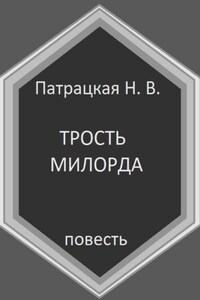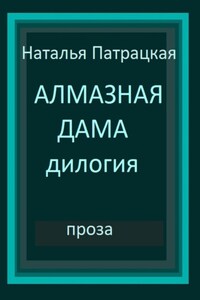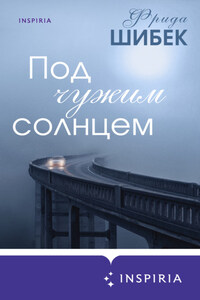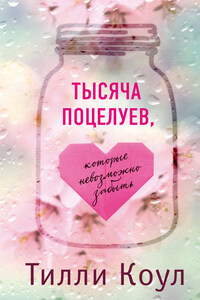Страх, озноб и назревающее чувство утраты оплетало едким
туманом мою ослабленную субстанцию. Сознание, едва отошедшее от наркоза, чётко
понимало, что именно в эти секунды Господь Бог дал мне шанс. Шанс спасти
последнее и самое ценное, что осталось в моей чёртовой жизни.
Держу на руках сына, которого родила лишь пару часов назад,
но шальной и болезненный взор устремлён в соседнюю люльку с другим
новорождённым — он умер. Роды моей соседки оказались очень тяжёлыми как для
матери, так и для её малыша. Врачи боролись за них, но, видимо, судьба не
пощадила этого кроху.
— Лера, нет. Не дури! Это подсудное.
В полутьме видела до
смерти перепуганное лицо врача-анестезиолога, друга-однокашника и того, кто уже
несколько месяцев неравнодушен к моей беде.
— Тебя арестуют, если
всё всплывёт, а я лишусь лицензии...
— Замолчи! — зашипела, подобно дикой кошке. — Я сейчас
готова лишиться сына, а тебя волнует какая-то лицензия?!
Возмущённо сверлила его взглядом, проникая в самые скрытые и
недоступные места его человеческой сути. Лицензия?! Какое это сейчас имеет
значение, когда мерзавка-судьба вынуждает слабую и ни в чём не повинную женщину
отдать своё чадо, во имя его спасения? Слёзы беззвучно бегут по щекам и душат,
колючим комом разрывая грудину и гортань, пока внутри всё рвётся на части, в
труху. Но решение единственно верное, и я ни за что не отступлюсь.
— Это лишь твои догадки, Лера. С ним всё будет хорошо. Он же
ещё совсем малыш, — срывающийся голос мужчины уходил в фальцет, раня и
раздражая слух.
— Они убьют и его. Я знаю! Чувствую, — почти срываюсь на
отчаянный стон. Силы уходят, сменяясь дурманящей слабостью. — Так же, как убили
его отца...
— Лера, ты только что родила, ещё не в себе. Лучше давай
вернёмся в палату, — Толя подхватывает меня за руку, опасаясь, что могу упасть,
но я решительно отстраняюсь.
— Её ребёнок уже мёртв! Мы просто их поменяем. Умоляю тебя!
Этот выход сейчас самый лучший. Помоги мне!
Губы младшего медбрата дрожат в нерешительности. То, что для
меня сейчас свято и необходимо, для него — вопиющее преступление.
— Это же ВАШ сын! Как ты можешь отдать его другой?! Дать
своё право матери совершенно чужой женщине?
— Ты не можешь знать каково мне сейчас, — процедила я,
смаргивая пелену слёз. — Не смей вразумлять!
— Лера, нет, я не могу... Не могу этого сделать, — мотает
головой мужчина и, кажется, вздумал идти за помощью медперсонала.
Нет! Хватаю его за руку и смотрю в упор. Мои глаза не
обманут. Пусть видит и читает в них всю мою несокрушимую решимость.
— Тебе и не нужно, — сурово цежу я. — Просто констатация
смерти, а чей младенец в люльке покажут бирки. Но ты замолчишь навечно, понял?!
Эта мать не узнает о смерти своего сына и, чем спасёт моего.
— Ты сошла с ума, — Толя, сдаваясь, качает головой.
— Переложи мёртвого в нашу люльку, — велю в ответ. — Толя,
умоляю. Тебе лучше мучиться совестью, зная, что ты не спас моего сына, но мог?
Анатолий видит мою полную решимость и понимает, что эта ложь
во спасение. Мужчина почти стонет от бессилия и, перекрестившись, выполняет моё
требование, меняет бирки на пухлых ручках младенцев.
А я смотрю на сладко спящее личико сына и вот тут полностью
осознаю, что теряю его навсегда. Да, лучше сейчас. Пока не успела вкусить
радость материнства до конца, пока ещё не запомнила его запах, плач. Пока рукам
незнакомо ощущение держать кого-то в своей колыбели. Лучше сейчас! Самой!
Успеть проститься с ним, но знать, что он где-то там. И ЖИВ!
Целую сморщенное личико, глотая рвущиеся наружу слёзы.
— Я люблю тебя, мой хороший. Надеюсь, ты когда-нибудь
простишь меня.
Опускаю малыша в люльку вместо мёртвого и заставляю тело
оторваться от него. Я больше могу его не увидеть, но сердце будет знать, что он
жив и проживёт долгую жизнь, как я и обещала его отцу.