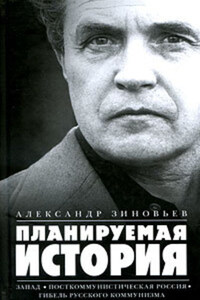Здравствуйте, сэр рыцарь!
Дорожная пыль под копытами вьется.
Мы вновь расстаемся. Что нам остается?
В далекие земли, в пустынные страны
Снискать себе славу, нажить себе раны.
Уйдет наше войско в железных одеждах —
Кто в шелковом платье, кто в светлых надеждах.
Проехать героем по дикой пустыне,
Отбить у неверных Господни святыни.
А также и золото, если случится,
А после вернуться, напиться, забыться…
А хочешь, и с места не трогайся смело:
Война и в Европе нехитрое дело.
Не все ли равно, сарацину ль, французу
Ты ткнешь от безделья копьем своим в пузо.
И это неважно – земляк благородный
Прервет твои годы иль турок безродный.
И даже не надо за море тащиться,
Чтоб славно сразиться, забыться, напиться…
А лучше не мучиться вовсе надеждой
И в сене душистом без всякой одежды
Все время делить меж вином и лежанкой
С услужливой, ласковой, сладкой служанкой.
Но жизнь дворянина – большое уродство;
Всяк должен быть рыцарь, являть благородство.
Мечом – иногда – и всегда словесами
Быть в битве, любви и вообще образцами,
Хранить свою честь, чтоб не звали растяпой
Пред орденом, кланом, страной, Римским Папой…
И значит, в дорогу собраться придется.
Мы снова уходим. Что нам остается?
– Дети мои, заклинаю именем Святой Троицы и преподобного Бенедикта, уймитесь! Вы на земле, принадлежащей Матери нашей Святой Церкви! – Сейчас я его убью и сразу уймусь!
Первый возглас принадлежал отцу Теобальду, аббату монастыря, носившего имя только что помянутой Святой Троицы. Ответил же стоявшему на пороге странноприимного дома сухопарому пожилому священнику некий встрепанный молодой человек со светлыми волосами до плеч, серо-голубыми глазами и раскрасневшейся физиономией.
– Брат Корнелий! – тоскливо воззвал аббат, мелко крестясь. Немедля из темного дверного проема выскочил здоровенный рыжий монах и, быстро поклонившись, изобразил на своем лице почтение и внимание. Получилось, к слову, не слишком удачно. На небритой роже брата Корнелия отпечатались следы такого множества смертных грехов, что даже для самой захудалой добродетели места не оставалось. Любой добрый католик, узрев этакого разбойника, поспешил бы обратиться в бегство. Черная бенедиктинская ряса и старательно выстриженная тонзура благочестия Корнелию вовсе не добавляли.
– Разними их! – со слезами на глазах приказал аббат, указывая дрожащей рукой на двор. – Корнелий, ты ведь раньше воевал в Святой Земле! И знаешь, как…
– Сделаю, – пробасил монах и вдруг осекся: – Э, отец настоятель, у них же мечи! Железные!
Бенедиктинец был абсолютно прав. На широком, вымощенном гладкими темными камнями дворе монастыря сошлись в поединке двое. По виду – благородные рыцари. Первый был высок, темноволос и смугл, носил светло-синюю, многократно штопанную тунику с вышитым на груди белым львом, поднявшимся на дыбы, и добрую, поблескивающую начищенным металлом кольчугу. Второй рыцарь являлся печально знаменитым на все графство Аржантан сэром Мишелем, баронетом де Фармер.
Разумеется, оба дворянина сжимали в руках узкие мечи-бастарды. Острия клинков были направлены на грудь противника. Рыцари выглядели основательно подвыпившими, отчего их движения казались несколько аляповатыми, будто у кукол-марионеток из театра бродячих лицедеев.
– Сударь, – Мишель де Фармер, тот самый дворянин, что столь невежливо ответил священнику, обратился ко второму поединщику, – вы, кажется, изволили назвать меня… меня… Слушай, Горациус, как ты меня обозвал?