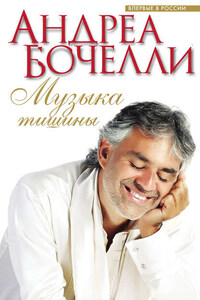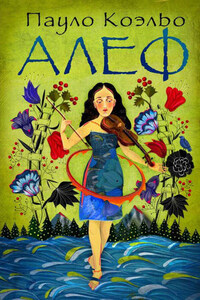Эссе
Общеизвестно, что нравится публике. Публике нравится много мяса. Много крови. Винные реки, коньячные берега. Океаны пива. А потом уже – пар из ушей, плотская близость, хотя для всех очевидно: секс бездуховен, а вернее он антипод духовности. Словом, вокруг одна химия и никакого тебе благорастворения – сплошное то, что поляки зовут rob со chcesz. Да что поляки. У русских есть такое словечко – беспредел. Литовцы названия не подобрали, но в деле могут дать фору учителям-соседям. Иногда.
Публике нравится быть заодно и хорошо себя чувствовать. Так примерно ощущает себя океан во время приливов/отливов. Публика всемогуща. Как океан. Человек, решивший кинуться вниз головой с крыши, так жалеет толпу, что зажимает ноздри и, зажмурившись, совершает последний шаг в пустоту. У публики вырывается вздох благодарности: ах, хоть один не подвел! На его месте так поступил бы каждый, жаль, смелости не хватает.
Публике нравятся фильмы о массовых самоубийствах, о леммингах, которых сама природа загоняет в лисью пасть на берегу Ледовитого моря. Похоже, такими леммингами были и Чингисхан, и римляне, и наши славные предки, павшие возле Воркслы[1]. Издалека публике также нравятся землетрясения, авиакатастрофы, цунами и покушения. Вот если бы все увидеть своими глазами – но из глухого укрытия! Чем страшнее и дальше несчастье, тем спокойнее на душе. Чем многочисленнее жертвы – тем слаще. В какой-то момент у критической массы и растворенного в ней индивида появляется фантомное чувство бессмертия. А как хороши погребения высшего ранга!..
В более мирные времена публика утешалась рассказами об антропофагах, кентаврах, амазонках, бэтменах и прочей бытовой ерунде. Для большинства эзотерика безопасна. Даже астральное тело, увиденное невооруженным глазом, по прошествии времени вызывает лишь снисходительную улыбку. Куда серьезнее, если зритель (читатель, слушатель, соглядатай) приходит в возбуждение только при виде геростратов, янычар, мамелюков, Пугачевых и прочих бенладенов. Надо держаться подальше от тех, кто прямо-таки заходится в предвкушении ленты о буднях заграничного легиона, о революции в Мексике или Москве. Дракула по сравнению с ними – невинный младенец. Революции всегда омерзительны. Даже если исполняются под романс или шуршат бархатистой подкладкой. Видеотехника упоительным образом мастурбирует мозжечки, в которых, по данным науки, все подвергается тщательному дроблению. Все становится мелкой дробью. Наука полагает это естественным и не гневается. Вы когда-нибудь видели разгневанную науку? Поэтому: rob со chcesz!
О, как бы хотелось выступить с официальной нотой: я покидаю ряды зрителей/слушателей! Хватит! Лучше побреюсь, почищу зубы, надраю ботинки и отправлюсь, например, к пани Яне! Но не с теми гнусными целями, о которых здесь выше упоминалось, нет. Мы с ней усядемся за мраморным столиком на террасе. Если пан Ян будет дома, мы станем пить чай и беседовать о низкопробности окружающей публики, о фатальной утрате гуманности. Если же пана Яна не будет, мы все равно не откажем себе в удовольствии заварить покрепче корону Российской империи № 34. И станем еще неистовее поносить зловредную публику. Припомним и ту неприятность в гардеробе театра, когда пожарный во время спектакля свалил в кучу все дорогие дамские шубы, подмигнул молодой гардеробщице и… Мы с Яней только вздохнем. Подкрадутся сумерки. Яня еще раз вздохнет и надумает спуститься в подвал за бутылкой. Я сброшу летний пиджак – ах, наконец-то! – и пойду освещать ей дорогу. На лестнице свеча вдруг погаснет. Яня споткнется и ухватится за меня. Тогда во мне загорится другая свеча, поярче, нежели восковая. Погреб у пани Яни сухой, просторный. Некоторые господа, сойдя сюда за вином, так бывают довольны, что тут же и засыпают. На этот случай стоит кушетка. Эта кушетка нам с Яней теперь пригодится. Правда, милая? Правда. Пускай бушуют цунами, падают самолеты, гибнут заложники. А когда растает моя свеча, когда наконец, опомнимся, мы с удивлением обнаружим мерцание люстр в подземелье – и публику, окружившую наше ложе: слуг, садовника, шофера с обеими любовницами, старого авиатора, атташе по морской контрабанде и даже чьих-то детей. Яня одернет одну из бесчисленных юбок, улыбнется и приветливо им кивнет. И зал огласится ураганом восторга: браво, бис!!! Внимание и одобрение публики всегда стимулируют исполнителей, и после повторного акта первым пожмет мне руку и вручит орхидеи жене не кто-нибудь – сам пан Ян, известный театральный поверенный. Ах, затрясется он, вот истинное художество, вот подлинное искусство!