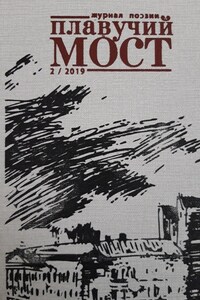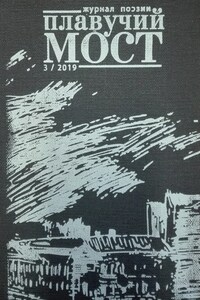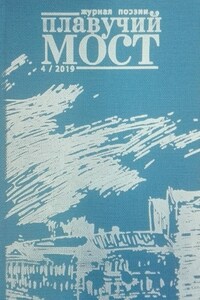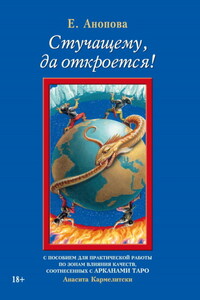***
Как поместить мне в горлышке безбрежном,
вот в этом стилусе античном боль свою?
Глаза открою ли, закрою вежды,
одна картина, никакой надежды:
отца предавший, подлый Юней Брут!
Всего больнее, ежели свои,
родные, близкие, любимые навеки
поссорились, когда идут бои,
дитя, я обниму тебя – ты в спину стек мне,
он тоненький, из пластика, стекла,
из меди. Боль, как ножик, зла,
и сквозь меня текут, плескаясь, реки.
Бывают бывшие друзья, мужья, враги.
Но бывших нет отцов, детей и внуков,
нет бывших матерей! Ты, Брут, не лги.
Зачем сцепил свои ты кулаки,
под тогою пронёс удар двурукий?
И вот теперь из раненой строки
не выдохнуть мне человечьи муки!
А лишь один большой звериный рык
из перерезанного горла, неба, века…
Сложилось так, что близкие, кто встык
с тобою связан, бьют больнее, детка!
Дитя, тебе бы отдала я жизнь,
дитя, тебе свои бы Рим и царство,
Москву, Сибирь, куда не надо виз
да с барского плеча бы по-боярски,
скажи, чего хотел? Чего боялся?
А, впрочем, поздно – Цезарь мой убит!
Я думала, что с близкими ни щит,
ни плач, ни конь, ни маскхалат не нужен.
Что спину обнажить не страшно, друже,
не выжгут звёзд и не воткнут оружье.
…Но растекаются под мертвым телом лужи
кроваво-красные, они такой же группы,
как у тебя. И в телефоне скупо
две эсемески (горше нет минут).
Ты тоже, Брут?
***
…И всё равно прорвёмся! Нам ронять
на травы капли крови не впервые!
Я так люблю – как пуля сквозь меня
от снайпера, разящая, навылет…
Люблю в последний раз я! Не нова
любовь поэтова. Мне в горести виднее!
Я всё равно с народом, как трава,
как перегруженная вирусом Москва,
за русскую сражаемся идею.
А между смертью и рожденьем столько лет,
что можно выстроить кафе и мавзолеи,
дома, дворцы, дороги, галереи.
Я так люблю весь огненный мой свет!
Что эти апокалипсные дни,
что эти апокалипсные ночи.
Как будто бы предвестники. Кусочек,
что может быть жесточе, одиноче,
коль не опомнимся!
Люблю тебя! Качни
обратно маятник, ножи вынь, пули, оси.
Гляди, как нас косой безумно косит,
младенцев, стариков, невинных их!
Что хочешь, чип мне в лоб иль карту гостя,
хоть в позвоночник, мускулы и кости,
но лишь ни этих улочек пустых!
За что, за что удар нам всем под дых?
Исподтишка? Как вырыдать нам крик,
как выветрить, как высушить, как выгрызть?
Нам – вровень с веком, нам с народом встык.
Я так люблю, что мне не страшен вызов
на родину дерзнувших палачей.
Идите лесом! Полем! Барбарисом!
Нам столько в гены вспрыснуто ночей,
Иисусовых гвоздей, свечей, очей
и хлеб блокадный! Брестом – быть привычно!
И очищать от скверны мир токсичный,
объевшийся-опившийся, черничный,
под бубны, пляски, вопли, улю-лю.
Любовь спасает. Я тебя люблю!
***
Родись заново, человек Руси всея!
Из земного праха, семени, солнца, распятия.
Я готова в себе, в чреве нежном тебя,
коль дитя ты, вынашивать, снова стать матерью.
Через муки пройти родовые. Гляди,
уже в потугах женских лицо, тело плавится!
Молоком набухают соски, резь в груди,
пахну яблоком, сливою и шоколадницей.
Перехвачено тело тугою парчой,
под рубашкой, разъехавшейся возле горла,
крик родильный, гортанный, всё небо – свечой
прожигает меня так, как есть, горячо,
позвоночник хрустит костью твёрдой.
Нам не надо обратно в наш день и в наш век,
человек земли всей, народись, человек!
Рви ты с веком глухим пуповину!
Вспомни кто ты! Руси ты всея верный сын,
воин вещей державы, её гражданин,
сердце выну
для тебя – леденящее – цветом рябинным,
для тебя его сталь, его сплав исполинный.
Вспомни космос – туда мы крылато летели,
нам не надо в века, что глухи, как туннели,
нам не надо в века, что слепы, точно пули.
Мы к вершинам хотели.
Мы горы носили.
Так зачем мы страной всею вспять повернули
во офшоры, в карманы чужие, в могилы.
Коль у нас есть священно сакральные тексты,