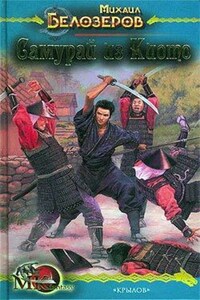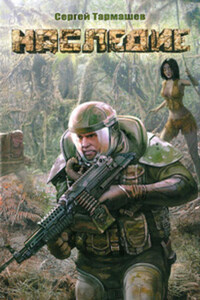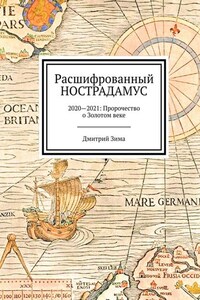Вертолет тот летал всегда по одному и тому же маршруту: над Лесом предков, через Оленью падь и перевал Семи братьев, дальше – за Девять холмов красных дьяволов и пропадал за черными болотами и реками Зыбью и Парашкой.
Рябой подошел к костру, вокруг которого они сидели и пекли картошку, повел чернющими глазами, от которых сердце уходило в пятки, и сказал таким хриплым голосом, что продирало до копчика:
– Так, пацаны… завтра возьмете ДШК[1]… – Он помолчал так долго, что все, затаив дыхание, впились в него глазами, а потом, довольный произведенным эффектом, добавил: – Но так, чтобы вернули в целости и сохранности… и чтобы сами там голов не положили.
Почему он принял такое решение, так и осталось тайной, быть может, узнал что-то о готовящемся нападении или предчувствовал его. Так или иначе, но время пришло.
– Ура!!! – подскочил худой сутулый Скел и от восторга едва не брякнулся в костер.
Это обсуждалось так долго, в таких подробностях, что они знали, каким маршрутом идти, где расположиться лагерем, кто где спрячется и как стрелять, и вообще, им казалось, что они давным-давно уже сбили этот чертов вертолет, и поэтому целый год дулись на Рябого за то, что он сдерживал их воинственные порывы. «Успеется… – говорил он им с непонятной усмешкой, – молоды еще, молоко на губах не обсохло, хотя у некоторых, я вижу, усы пробиваются. Умирать всегда легко. А надо жить, жить. Слишком мало нас осталось…» И все ему, конечно, безотчетно верили, хотя и рвались в бой даже с людьми-кайманами. Тех же, которые могли что-то возразить, давно не было в живых – пали они смертью храбрых с этими самыми кайманами. Но это было давно, еще до того, как это поколение пацанов оторвалось от материнской груди. Поэтому они и не ведали опасностей и были смелы до беспамятства.
– Ты… ты… ты… – Рябой кругом повел пальцем с обломанным ногтем, словно выбирая себе жертву.
Он пропустил Скела, толстого ленивого Дрюнделя с кисельными мозгами и с румянцем во всю щеку, одетого в настоящую коровью доху, а не в жиденькую дошку, естественно, Мелкого Беса за его ненадежность и хлипкость даже здоровенного и сильного, как медведь, но медлительного Телепня[2], сына рыбака. Он пропустил также Чебота – сына полупопа-полушамана, хотя его взгляд задержался на нем дольше, чем на остальных, пропустил Косого по вполне понятным причинам и наконец ткнул в широкоплечего Костю:
– Ты… – Рябой шумно втянул в себя воздух, как лось на водопое. – Ты, как лучший стрелок, будешь старшим! Головой ответишь, если что! Все, что найдете, притащите сюда. И упаси вас Бог обмануть меня… оторву и выброшу!
И все ему поверили, и даже на мгновение съежились, и втянули головы в плечи, потому что Рябой был скор на расправу и беспощаден, как острый клинок.
– Хорошо, – покорно согласился Костя, смахивая с глаз густой белый чуб и пряча за пазуху книгу, которую читал при свете костра.
Завтра – это значит на рассвете, когда еще петухи не пропоют, когда солнце еще не появится над сопками за деревней. Надо еще привести с поля лошадей и взять кое-что в дорогу да и утрясти все вопросы с приятелями.
Клички к нему не клеились. Его называли то Белым, то Приемышем, то Сметаной, но у него было такое открытое лицо, непохожее на хитрые, скуластые лица аборигенов, что клички отлетали от него, как горох от стены. Поэтому его чаще всего называли родным именем – Костя. И это было правильно, потому что имя обычно соответствует внутренней сущности человека, а сущность у Кости была под стать его имени, то есть «обладающий непоколебимой справедливостью». И действительно, если Костя говорил, то только правду, даже если это грозило неприятностями, если ему поручали дело, то выполнял его чрезвычайно добросовестно, если о чем-то рассуждал, то знал, о чем рассуждает, а за убеждения готов был биться до смерти, не отступая ни перед кем, – в общем, был он не от мира сего, как святой.