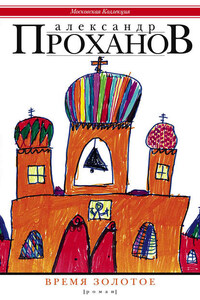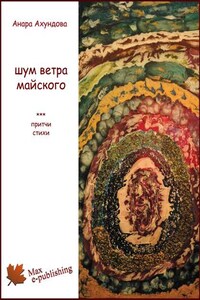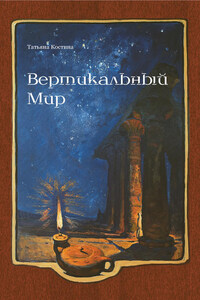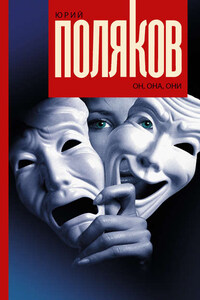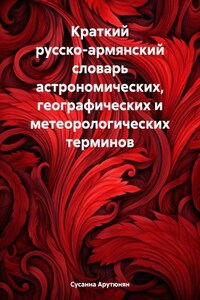Иван Градобоев набирал полную грудь студеного воздуха. Накалял вздох своей огненной яростью. Жарко выдыхал в микрофон. Железный звук летел над Болотной площадью, рассекая, вспарывая, вырывая из толпы вопли страдания и ненависти. Градобоев жадно глотал эту ответную ярость, пил пьянящий настой. Делал вздох, поднимая высокие плечи, сливая свою огненную силу с гулом и ревом толпы. Направлял грохочущие слова в черное колыхание площади.
– Чегоданов вор! Царь воров! Он украл наши нефть и газ! Наши лес и алмазы! Превратил Россию в пиратское королевство, которым управляют бандиты и христопродавцы! Он украл нашу свободу, подсовывая на выборах фальшивые бюллетени, где вписано его ненавистное имя! В пятый, десятый, двадцатый раз он будет назначать себя президентом, пока от России, как от мертвой рыбы, не останется обглоданный Уральский хребет! Пусть Чегоданов покажет свои счета в американских и швейцарских банках, в банках Гонконга и Сингапура, в офшорных банках Кипра и Каймановых островов! Пусть скажет, какая доля принадлежит ему в газовых и нефтяных компаниях, какие отчисления идут ему от торговли оружием, сколько платят ему губернаторы, получая ярлыки на кормление! Пусть расскажет, кто взорвал дома в Москве, кто убил и продолжает убивать неподкупных журналистов! Люди, хотим ли мы вора-президента? Хотим ли мы жить в обезьяннике, в который превращают Россию?
Градобоев метал в толпу тяжкие, как булыжники, слова, и они оставляли вмятины. Толпа стонала от боли, содрогалась от страшных слов. Глухо ревела в ответ:
– Нет Чегоданову! Вор не пройдет! Градобоев – наш президент!
Градобоев чувствовал могучую слепую силу толпы, которая колыхалась на Болотной площади, как черный вар в накаленном котле. Его слова, как языки пламени, лизали стены котла, и толпа вскипала липкими пузырями, чавкала, чмокала, одевалась туманом, в котором мутно белели лица, струились флаги, качались транспаранты. Кинотеатр «Ударник» в вечернем воздухе начинал ртутно светиться. Вода в канале крутила золотые отражения фонарей. Мостик через канал был облеплен людьми. Над крышами домов, алый, близкий, дышащий, возносился Кремль, а с ним белоснежные соборы, золото, лучи прожекторов, в которых клубился синий осенний туман. И снова площадь с толпой, похожей на зверя, по спине которого пробегала больная судорога, волна серебристого меха.
Градобоев любил толпу. Страшился ее. Чувствовал ее непредсказуемый нрав. Ее вероломство, ее ненасытность. Повелевал ею, навязывал свою волю и был в ее власти. Как сказочный царевич, питал ее своей плотью, кидал ей в пасть сочные, вырезанные из тела ломти, боясь, что зверь с окровавленными ноздрями кинется на него и сожрет. И в этом было упоение, несравненная сладость, неутолимое сладострастие.
– Чегоданов думает, что мы насекомые, лишенные смысла и воли! Мыши, поедающие крохи с его барского стола! Но мы не мыши, мы птицы! Несем весть о Русской Весне! Мы вольные граждане великой страны, которая сбросит с себя иго жуликов и воров! Иго временщиков и захватчиков! Нет Чегоданову! Его место не в Кремле, а в тюрьме!
Он водил по толпе огромным плугом, прокладывал борозды, выворачивал пласты. Чернозем шевелился, дышал. Градобоев вспарывал его отточенной сталью, сеял семена своей ненависти и любви.
– Градобоев! Градобоев! – рявкала и лязгала толпа.
Он отступил от микрофона в глубину эстрады, оставляя после себя пустоту, в которую площадь тянула тысячи рук, требовала его обратно, жадно шарила в сумерках. Градобоев, задыхаясь, слушал восторженных референтов, отвечал на торопливые вопросы журналистов, поворачивался навстречу слепящим вспышкам. Искал и находил влюбленные сияющие глаза женщины, которая кивала ему, восхищалась, гордилась его отвагой и бесстрашием.