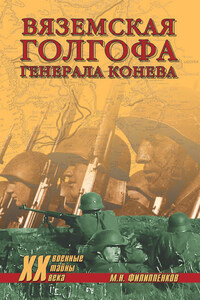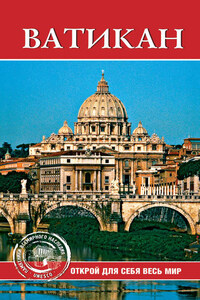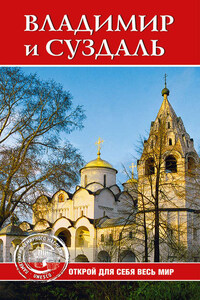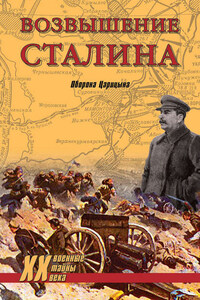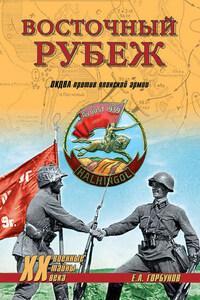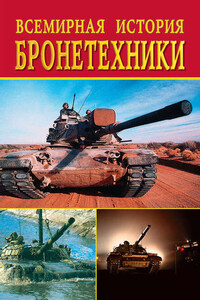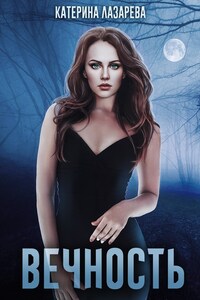– А тебя никто не спрашивает, – сказала старуха бульдогу, который шел покорно на поводке. Пес приноравливался к маленьким старушечьим шагам и переступал, как хозяйка, – мелко, неторопливо, бочком, потому что с трудом сдерживал бьющую через край энергию и мощь.
Ветер бросил им навстречу белую метельную занавесь.
– Холодно, а ты все просишься гулять, – продолжала старуха ворчливо. – Гулять бы ему да гулять… Смотри, какой снег!
Бульдог понурил голову, будто и в самом деле почувствовал себя виноватым. Выпучив глаза, печально поглядел вверх на хозяйку.
Метель бушевала с утра, будто вернулся февраль. К полудню успокоилось, только изредка сорванные с деревьев белые шапки рассыпались прозрачной кисеей. Наконец где-то вверху, в небе, отодвинулось облако, и брызнуло солнце.
Словно почуяв свою правоту, бульдог дернул за веревочку и поволок старуху к речке, на мост, под которым бурлила вода. На потрепанном настиле не хватало досок, разметанных колесами грузовиков и танкеток, проходивших здесь целыми вереницами во время зимних учений. И теперь сверху сквозь щели видно было, как вода крутилась вокруг деревянных свай, а подплывавшие льдины вгрызались, разламывались от ударов и плыли дальше. Видно, пришло время, и, несмотря на холода, половодье набирало силу.
Старуха хотела было идти через мост, но замешкалась и резко натянула поводок. Пес оглянулся. Он не посмел подумать, что мудрейшая его хозяйка в чем-либо не права, и терпеливо ждал разъяснений.
– Туда опасно, – с запозданием пояснила старуха. – Можно провалиться. Поглядим, как они проедут.
Сверху по дороге прямо к мосту, вырастая с каждой секундой, скатилась новенькая танкетка и остановилась по другую сторону реки. Аккуратные колесики прилажены надежно и не цепляются друг за дружку даже на самом быстром ходу. Грозной пустотой зияла тоненькая пушечка. Во всех линиях – лад и продуманность, словно бы лучше и смастерить нельзя, не то что рохля трактор, всю зиму ржавевший на краю поселка. Нет! Люди всегда для истребления и войны думали быстрее и ловчее, чем обо всем остальном.
Танкетка еще приблизилась, от ее броневых плит, выкрашенных зеленой краской, веяло какой-то праздничной несокрушимой мощью. Но старуха не радовалась. Мир, который она создавала всю свою жизнь, крепчал и наливался силой. И в то же время оставался чужим, больше того – враждебным, изничтожающим все, что связано было с ее делами и памятью.
Тяжесть крашеного броневого листа, как и всякое другое проявление государственного могущества, вызывало у старухи острое ревнивое чувство: если бы она руководила страной или друзья – такие, как она, – броня была бы крепка не хуже, а даже лучше.
Но все связанное с нею, с друзьями, сломлено, разметано и странно, что уцелело в душе после стольких тюрем. Но даже если бы этих горьких лет было вдвое больше, она бы не отказалась от своей судьбы. Жизнь ее была заполнена любовью по самую высокую отметку – выше не бывает, – хотя за всю жизнь ей выпало любви меньше трех лет.
Она сама не ожидала, что ее выпустят из тюрьмы и даже разрешат поселиться у двоюродной тетки. Больше от семьи никого не осталось. Странно, что посреди всех бурь в ней по-прежнему крепло чувство, что будь отец жив, он бы защитил ее ото всех невзгод. Умом она понимала: ничего не мог сделать слабый больной старик. А чувство жило. И видела она, как в стылый мартовский день возле дома кабатчиков Мызниковых отец повязывает алую ленту на броневик. И все кричат от восторга, и он кричит. Слава богу, не дожил до Октября. А если бы дожил, увидел бы, что она увидела?