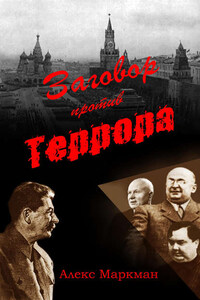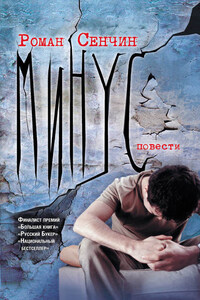Оперативник неторопливо вытаскивал из его рюкзака вещь за вещью, внимательно изучая каждый предмет. Все, без исключения, было такое барахло, которое не подобрал бы даже самый отчаявшийся нищий. Очередь дошла до потрепанной тетрадки. Оперативник перелистнул несколько страниц, и на его каменном лице брови поползли вверх от удивления. На каждом листе были рисунки, сделанные довольно хорошо, человеком явно талантливым. C пожелтевшей бумаги угрюмо смотрели уголовники, с которыми его подопечный сидел. Их лица, исхлестанные годами лагерного быта, как будто освещались внутренним светом, исходящим из души. У одних это был недобрый огонь злобы и предательства, у других – силы и достоинства. Оперативник хорошо знал их всех, и был немало удивлен, насколько верно была подмечена сущность каждого.
– Кто рисунки-то рисовал? – спросил оперативник.
– Я. Кто же еще?
Оперативник невольно кинул взгляд на его грубые, прокопченные загаром руки.
– Учился где рисовать, что-ль?
– Учился. В твоей школе. Все кумовья помогали советом.
– Да ты не ершись. Я тебя ведь сейчас отпущу на свободу.
– Где я мог учиться? Здесь впервой и попробовал, что-б время убить.
– Эх, Николай, Николай – вздохнул оперативник. Он вырвал из тетрадки два рисунка: лицо человека, совсем не похожего на уголовника, и две руки в крепком пожатьи, как это делают люди встречаясь или прощаясь.
– Эти рисунки я изымаю – сказал оперативник.
– Для музеев, что-ль? – весело спросил Николай. – Могу по заказу сделать.
– Вместо того, чтобы денег заработать на освобождение, ты рисунками занимался, да дружбу водил вон с такими. – Оперативник кивнул в сторону изъятого портрета. Потом оглядел барахло, разложенное на столе.
– Тебе твой друг не передавал ли чего? – спросил оперативник, внимательно наблюдая за выражением лица заключенного. Потом помедлил секунду и махнул рукой. – Все равно не скажешь – пробурчал он, будто отвечая самому себе. – Держись подальше от таких. – Оперативник давал советы равнодушно, без энтузиазма. – Попадешь в беду такую, что не выбраться. Бесполезно, однако, толковать тебе. Забирай свое тряпье и уматывай. Свободен.
Свободен! Одно слово, как пароль, на границе двух миров! А граница то, всего метров десять – пятнадцать запрещенной полосы, на которую не должна ступать нога человеческая.
Николай вышел за ворота лагеря и на мгновение застыл, пораженный майской красотой мира Божьего. Лязгнули замки за спиной, как бы давая знак уходить. И Николай двинулся в путь.
Пройдя около километра, он остановился и оглянулся, прислушиваясь. Зловещий забор с шестью рядами колючей проволоки и путанки скрылся из глаз. Ни впереди, ни сзади, не было ни души, как будто все живое попряталось от него. Он стал внимательно приглядываться к плотной стене леса по правой стороне дороги. Пройдя еще минут десять он заметил на засохшем дереве едва заметную голубую веревку, а под ней начало такой-же неприметной тропы. Оттуда, из чащи, раздался тихий, едва уловимый свист. Николай свернул на тропу и стал продираться в зеленую гущу, раздвигая спутанные ветки и сбрасывая с себя паутину, пауков и мертвых жуков. Свист повторился над самым его ухом. С дерева спрыгнул человек, стриженный и в зэковской робе с биркой на груди, похожий на персонажи из сказок, которыми мамы пугают детей словами: «прийдет бабай, утащит тебя в лес и съест». Он улыбался металлическими, сделанными лагерным умельцем зубами. Передние два зуба были выбиты, и на их месте зияла дыра. Толстый шрам пересекал лоб странным узором: от самого верха левого виска через лоб вниз до правого виска, а там резкой петлей огибал бровь и заканчивался возле уха. Это был именно тот, кого Николай искал, приятель давних лет, с которым они жили в одном поселке до посадки. Леха тянул срок за попытку убийства: нанес три ножевые раны в драке да, по его словам, неудачно: потерпевший, паскуда, выжил и Леха отделался шестью годами лагерей и горечью неудачи.