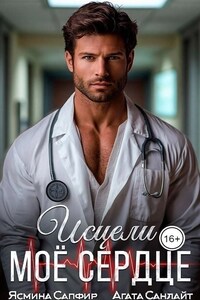ПИСЬМА
Холодная и дождливая улица встречала одинокие ночные такси своим узким, как пищевод, каналом зашторенных окон и темных переулков. Дождя, как ни странно, не предвиделось, потому что предыдущий прошел не так давно, а новый, судя по всему, так и застрял в чреве тучи, решив и вовсе не рождаться. Эти ночи, как и многие другие ночи тусклой окраины Нью-Йорка, отчего-то всегда казались мне особо мрачными и тягостными, как приступы депрессии у психически нездоровых людей.
Должно быть, и я когда-то страдал депрессиями, потому что в подобные черные, как негритянская задница, беспроглядные, как путь слепого по тоннелю метро, пустые, как желудок бомжа и, в то же время яркие, как петушиные перья ночи, я забывал о том, как прекрасна бывает жизнь своими радостными мелочами и видел только очередную растворенную в осени ночь, новый дождь, покрывший старые шрамы асфальта, холодную темную улочку Нью-Йоркской окраины, где мне предстояло прожить еще целую вечность, прежде чем я пойму, что жизнь и вправду никчемна и солнца в ней гораздо меньше, чем этих дождей.
Та странная поздняя осень пахла, как и все городское межсезонье: бензином и мокрой пылью, духами и виски, елочными игрушками, приготовленными запасливыми владельцами супермаркетов и маленьких магазинчиков и уже выставленными на продажу, и просто хламом старого, чахлого поверженного туберкулезом небоскребов города.
Мне было двенадцать лет в ту осень. Отец мой держал маленький бар в самом захолустье сити, и так как мать моя давно уже умерла, меня ничего не держало дома, кроме тоскливых воспоминаний, а поэтому сразу же после школы, я бежал к отцу, чтобы провести вечер или даже ночь в компании выпивох средней руки, а иногда и вовсе алкогольных профессионалов.
Я любил бар. В нем всегда пахло теплым коньяком и шоколадным ликером, в нем вершились мужские судьбы и плакали их разбитые сердца, и что бы я там не делал: подметал пол, мыл стаканы для пива или до блеска натирал рюмки, отец всегда подбадривал меня, поговаривая, что после его смерти бар перейдет ко мне и я стану достойной заменой старику Эштону, то бишь ему, потому что я познал все тонкости ремесла еще в раннем детстве. Я уже не помню себя вне бара, казалось, вся жизнь моя была прописана в этом местечке от самой первой главы до последней и я принимал свою долю такой, какая она есть, никогда не задумываясь над тем, что можно жить как-то иначе.
Память стерла из моей головы причину, по которой отец в тот вечер умчался куда-то, сломя голову, на своем «бьюике», оставив меня одного. Возможно, заболела одна из его любовниц или что-то там еще… В общем, сославшись на то, что из-за плохой погоды и всеобщей хандры в баре отчего-то не было ни одного посетителя, отец «сделал мне ручкой», надел свою пропахшую табаком кожаную куртку и скрылся за входной дверью, приказав мне вымыть пол и почистить специальным порошком раковину и плиту на кухне.
Делать мне все равно было нечего, так как все уроки назавтра я сделал еще днем, сидя за барной стойкой перед телевизором, а поэтому, не обращая внимания на отчего-то хмурое и подавленное настроение, я принялся поднимать с пола стулья и ставить их на столы ножками вверх, чтобы они не мешали уборке. Телевизор я выключил. После шумного дня в школе и не менее суетливого вечера в баре до того, как его покинул последний клиент, мне хотелось тишины и спокойствия. Разобравшись со стульями, я отправился на кухню, где набрал теплой воды в большое пластиковое ведро противного оранжевого цвета, налил в него немного моющего средства, воняющего какой-то веселенькой легкомысленной больничкой и, вытащив из кладовки швабру, вернулся со всем своим барахлом уборочного характера обратно в зал, решив, что грязные плита и мойка вполне могут подождать до лучших времен.