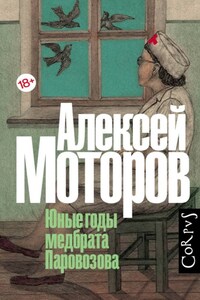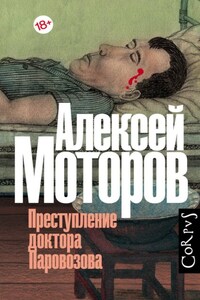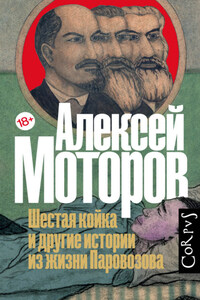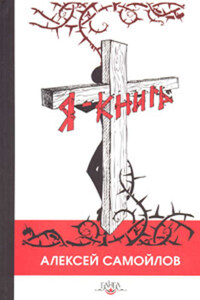Моей жене Лене
Одаренный пламенной душой, Жюльен обладал еще изумительной памятью, которая нередко бывает и у дураков.
Стендаль
Красное и черное[1]
Очень глубоко. Настолько, что сюда не проникают солнечные лучи. Надо мной километр вязкой, густой, черной воды. С такой глубины невозможно вынырнуть, и я даже не пытаюсь. Вокруг меня абсолютная, непроницаемая тишина. Так не бывает, ведь на любой глубине можно что-нибудь услышать. Просто кто-то невидимый выключил звук.
Я знаю, чтобы не спугнуть это черное безмолвие, нельзя даже думать. И сразу, словно в ответ, где-то там, высоко, светлеет. Мягким, бархатным прикосновением начинается мой подъем к далекому мерцающему своду.
Вода уже не черная, сейчас она как свинцовое грозовое облако. Но и облако быстро меняется, покрывается сединой. И вот уже могучая сила выталкивает меня, с каждой секундой ускоряя движение в зеленеющей воде, стремительно приближая к чему-то невероятно яркому, ослепительно-белому, такому, что невозможно выдержать. А тишина еще со мной, хотя я уверен – ненадолго.
Сейчас больше всего мне хочется туда, навстречу свету, к первому резкому вздоху, к тому чувству высвобождения, которое почему-то давно знакомо.
За несколько мгновений до того, как я прорываюсь к слепящему солнцу, что-то заслоняет его. Передо мной возникает картинка. Даже не картинка, а фотография. Сначала маленькая. Но она быстро увеличивается. Вот уже совсем большая. Очень знакомая. Трое на фоне моря. Девушка, парень и ребенок. Кажется, я видел их когда-то, но теперь не узнаю. Еще немного – и я вспомню. Сейчас. Лица всё ближе. Свет вокруг меня медленно гаснет. Лишь фотография остается горящим экраном.
На снимке отчетливо проступают белые буквы, они выписаны очень причудливо. Разобрать трудно, но я уверен, что читал эту надпись раньше. “СУХУМИ-86”. Она должна означать что-то важное для меня. Конечно, мне уже почти удалось узнать, это же…
И я выныриваю. Удивительно, тут нет криков чаек, шума волн, шелеста откатывающейся гальки, детского смеха.
Вместо этого какой-то огромный и спокойный голос произносит:
– КОТОРЫЙ ЧАС?
Невероятно трудно понять смысл сказанного, хотя, наверное, тут нет никакого смысла. И когда я уже схватил убегающее эхо, другой голос, тоже уверенный и сильный, мягко разжимает мою руку с обрывками слов:
– СЕМНАДЦАТЬ ПЯТНАДЦАТЬ!
Как же приятны, оказывается, могут быть голоса. Необязательно понимать, что они говорят, сам звук их прекрасен, он мягко качает, переполняя меня неизведанным раньше восторгом.
Такое хочется слушать и слушать, и, видимо, понимая это, первый голос снова приходит из своего ниоткуда:
– ПОРА ЗАКРУГЛЯТЬСЯ. ШЬЕМ!
Мне необходимо увидеть тех, кто говорит. Кто произносит эти удивительные и красивые слова.
И вдруг отчетливо понимаю, что мои глаза закрыты. Не просто закрыты – на них давит тяжелый груз. И кроме этих голосов, никто на свете не сможет сдвинуть его.
– Помогите открыть глаза! – прошу я, но получается только протяжный и громкий стон.
И тогда возникает третий голос, самый главный, заполняющий все вокруг, не оставляя ни сантиметра пустого пространства:
– ОН ПРОСЫПАЕТСЯ. ЕЩЕ ФЕНТАНИЛ!
На столе надрывались оба телефона, городской и местный. Городской был красного цвета, местный – серого. Местный звонил в тональности ля, а городской – в ля-диез. Интересно, какой из них замолчит первый? Да наверняка местный.
Первым заткнулся городской. Местный выдал еще две мажорные трели и тоже утомился.
Мы с Лидией Васильевной синхронно вздохнули.
Я работаю в отделении пятый год, а в кабинете у Суходольской всего второй раз. Визит в кабинет заведующей означает серьезный разговор. Первый такой случился года три назад. Тогда она снимала с меня и Вани Рюрикова стружку, причем с Вани заочно. Абсолютно не по делу. Я сел с язвой на больничный, но жирная Танька Лаптинова, наша сестра-хозяйка, пустила слух, что мы с Ваней гуляли на чьей-то свадьбе. Ни много ни мало – неделю. За Суходольской водилось подобное – она иногда верила в самые невероятные вещи. Когда долго работаешь в реанимации, поневоле становишься мистиком.