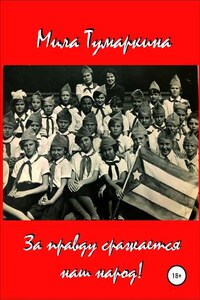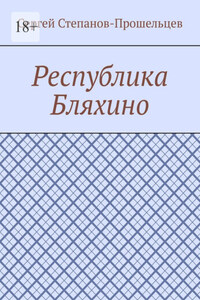Пионерский лагерь в СССР был не только испытанием на прочность, но и суровой школой жизни. Именно там мы узнавали цену и себе, и окружающему миру, человеческим поступкам и отношениям.
Лакмусовая бумажка характера, закалка принципов, цена дружбы, верности и предательства – лагерь будто негатив, проявлял нас и помогал быстро взрослеть.
Лагерные смены начинались с общего собрания, выбора председателя отряда. А заканчивались костром, братанием, слезами, тайными поцелуями в щеку и обещаниями встречаться часто и любить долго-долго. До гроба.
Между этими точками было много того, о чем по прошествии лет вспоминаешь с удивлением, восторгом или страхом.
На самом деле запоминались мелочи, едва ощутимые и легкие, как акварель. Детали, чувства несправедливости и обиды, остальное – смутно, урывками.
В тумане далеких лет растворяется все без остатка, кроме тихой грусти и умиления. И еще появляется осознание того, как тепло и хорошо было в советском детстве, где деревья были большими, а родители молодыми.
Я многого не помню. Но эта смена отпечаталась, будто все произошло только вчера. Как кольца лет на срезе дерева. Как выжженное клеймо в душе.
Сначала меня выбрали председателем отряда. Конечно, с подачи воспитательницы. Это было неожиданно и очень почетно. Я даже немного заважничала, но это быстро прошло, когда Марина Яковлевна попросила меня следить за порядком и доносить лично ей о дисциплине в каждой группе. А еще о неблаговидных поступках и неблагонадежных ребятах, в смысле опять же нарушения режима и ненормативной лексики.
Групп было 5 по 8 человек. Я возмутилась. Потому что отец мне вбил в голову одну нехитрую истину: доносчику – первый кнут. Да и вообще, я считала доносительство чем-то мерзким и постыдным. И не представляла себе, что я смогла бы это сделать.
Но Марина Яковлевна взяла меня за горло обещанием сообщить моей маме об отказе сотрудничать (оказывается, она работала с ней в одной школе), а еще привела в пример Павлика Морозова, как образец настоящей пионерской принципиальности и честности.
Его бюст, как немой укор, стоял в ряду других пионеров-героев в лагере на аллее Почета, по которой мы каждый день строем маршировали до столовой.
Я сникла. Думала всю ночь, а утром сообщила отряду о моей нелегкой доле, потребовав или сместить меня с поста председателя, или не попадаться на эту провокацию со стороны нашей воспиталки: в смысле – вести себя тихо, хотя бы для виду, чтобы мне не стать предателем и стукачом.
Мальчишки из отряда, с которыми я быстро подружилась, пришли к выводу: меня не смещать, а взять под крыло – и через меня воздействовать на вожатых. Одним словом, сделать из меня засланного казачка в стане врагов.
Конечно, я попала, как кур в ощип. Между двух огней. Между двух жерновов. Первый раз в жизни. И хотя функции председателя отряда были иногда приятны, тем не менее, я глубоко переживала свое положение. Чувствовала себя неуютно, не в своей тарелке.
Конечно, меня на равных приглашали на педсоветы, чтобы посвящать в планы мероприятий, а потом я разъясняла отряду что, как и где.
Ребята уважительно признавали меня как старшую по званию, и это нравилось. А еще пионерские линейки утром и вечером. Они были прекрасны.
Ты стоишь перед выстроенной шеренгой товарищей, натянута, как струна и, командным голосом произносишь: «Отряд, смирно! Равнение на флаг!» И все тридцать человек повинуются тебе. Ты чувствуешь: за твоим плечом сила, управляемая тобой. И, гордая этой силой, переполненная достоинством и ответственностью, рапортуешь: «Товарищ старшая пионервожатая! Отряд «Имени 26 июля» на утреннюю линейку построен!» «Вольно!» – отзывается начальница, и ты, птицей, летишь к отряду, выкрикивая на ходу: «Вольно!» И сердце выскакивает из груди, и щеки краснеют, и душа трепещет от пережитого волнения и высокой чести представлять друзей на пионерской линейке.