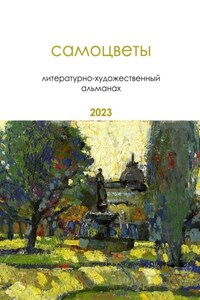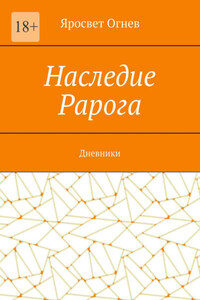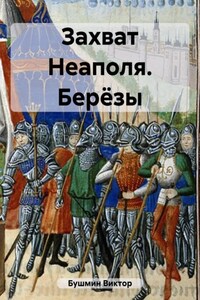У Петера умер дедушка. Во вторник, осенью. Дворовый пес по кличке Жук, черный как смоль, беспокойно кружил по двору хутора, подвывая, припадал носом к земле, словно вынюхивая чьи-то чужие тени. И всё, вроде бы, было как всегда. В смысле обязательного солнца у кромки неба, укромной возни мышей за стеной и непременного осеннего ветра, выдувающего вчерашние следы с холмов. Но, неотступное и навязчивое, зудело понимание, что отныне многое будет иначе.
У самого Петера были сложные взаимоотношения со смертью.
Он её не чувствовал. Потому и предпочитал страху – равнодушие. К тому же он, пусть смутно, но осознавал, что существуют вещи столь же неотвратимые, но куда как более страшные. Слепота, например, как у соседского мальчика Тьёрда. Или война – как причинение смерти многим… о войне и обо всем на свете рассказывал дедушка. В последнее время особенно часто. Рассказы случались сбивчивые, путанные, но, странным образом, оттого еще более живые.
Петер очень любил дедушку. Что не удивительно, ведь тот был единственным оставшимся взрослым, которого Петер действительно знал. Конечно же, есть еще учитель Хенрик, чем-то вечно недовольный и на что-то обязательно обиженный; пастор Храфн, с которым Петер предпочитал встречаться по возможности редко, желательно – только на исповеди; многочисленные соседи, проживающие собственные жизни и мечты на прилегающих улицах и подворьях. Так близко, и в то же время так далеко – не докричаться, – что даже сами помыслы о том, чтобы узнать кого-либо поближе казались пустой тратой времени.
Петер сидел у изголовья дедовой кровати, основательной, сработанной, что называется, на века, смотрел на неподвижное с желтоватой и тонкой кожей лицо покойного. И изо всех сил пытался заплакать. Слёз не было. Как не было и дедушки. Было отсутствие. Чье-то чужое тело. Были частые взрослые; разные, скорые на эмоции лица. Пастор Храфн монотонно бубнил себе под нос. Тётушка Агата – мать Тьёрда – стояла рядом, крепко сжимая своей похожей на птичью лапку рукой плечо Петера, увещевая его не держать боль в себе, дать ей выход в слезах. Оплакать деда.
Петер же просто молчал и слушал, слушал. Слушал, как старый Жук, не находя себе места, мечется по двору, вторит завыванию ветра; слушал, как скорее по привычке бранится с лошадью сосед – старый Йохан; как скрипят едва слышимые в общем потоке повседневного шума доски сгружаемого с катафалка гроба.
Незаметные, сплетались кружева времени, спешили к скорым потокам реки, цеплялись, походя, за первые оборванные осенью с деревьев сада листья. Также и мысли Петера. Неслись вскачь, наседали друг на дружку, толкаясь локтями и переругиваясь… в конце концов, всё смешалось в памяти: выцветшие цвета, старые руки тётушки Агаты, жар собственных ладоней Петера, громоздкие звуки, все обязательные сочувственные фразы. А после исчезло и это. Остался лишь ослепительный солнечный свет. И, отчего-то – предчувствие первого снега.
Петер любил раннюю зиму. Пепельный снежный наст, колючий и ломкий, скрывающий задремавшую до весны траву на холмах; свежесть воздуха, пахнущего океаном. Петер любил саму влюбленность в зиму; ему нравилось, покончив с уроками и обязательной помощью по дому, без дела бродить по деревенским улицам, взбираться на холмы, по облакам наблюдать движение ветра – редкие минуты покоя. Ему нравились зимние ботинки, пальто нараспашку, колючие шарфы, безразмерные шапки. Конечно же, пальто у Петера не было. Да и шарфу цветов явно не доставало. И сочетания эти, по большей части, были не более чем выдумкой, навеянной воспоминанием вычитанной где-то истории о большом городе и городских детях.