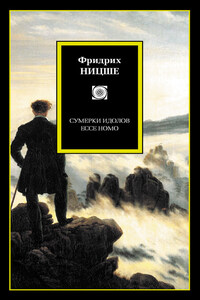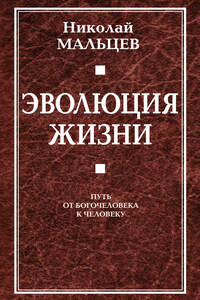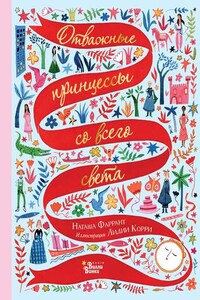ДВа графа: Алексей Вронский и Лев Толстой
Было время, когда и я не любил военных. Я был тогда очень молод; но, к счастью, это длилось недолго!
Воспитанный на либерально-эстетической литературе 40-х годов (особенно на Ж. Занд, Белинском и Тургеневе), я в первой юности моей был в одно и то же время и романтик, и почти нигилист. Романтику нравилась война; нигилисту претили военные.
Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей.
И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов?
До этих людей теперь только дошло многое из того, что нас (немногих в то время) волновало, утешало и раздражало тридцать лет тому назад… Прогресс, напр. Какой именно прогресс?.. Разве я понимал в 20–25 лет ясно – какой? Прогресс, образованность, наука, равенство, свобода! Мне казалось все это тогда очень ясным; я даже, кажется, думал тогда, что все это одно и то же… Даже и революция мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только романтическая, эстетическая сторона этих революций: опасности, вооруженная борьба, сражения и «баррикады» и т. п.
О вреде или пользе революций, о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше. Почти совсем не думал.
Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их военную, боевую сторону, а никак не штатскую цель их… Воинственные средства демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о прозаических плодах этих опасных движений. Я оказывался в глубине души моей гораздо более военным по духу, чем мог того ожидать в то время, когда настоящих военных не любил. Я сказал: «довольно долго» воинственные средства революции заставляли меня забывать их уравнительные пошлые цели. От досады на тогдашнюю путаницу моих мыслей я сказал – «долго». Но по сравнению со многими другими людьми, пребывшими, быть может, на всю жизнь в стремлении к всеобщему мирному и деревянному преуспеянию, – я исправился скоро… Время счастливого для меня перелома этого – была смутная эпоха польского восстания; время господства ненавистного Добролюбова; пора европейских нот и блестящих ответов на них князя Горчакова. Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в уме моем была до того сильна в 62 году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья… Я идеями не шутил и не легко мне было «сжигать то», чему меня учили поклоняться и наши, и западные писатели… Наши – путем искусного и тонкого отрицания или ложного, одностороннего освещения жизни (хотя бы и сам Гоголь – «Как все у нас скверно!»), а западные – открыто и прямо (хотя бы Ж. Занд: «Как прекрасен демократический прогресс»)… Но я хотел сжечь и сжег!.. Догорела последняя тряпка гоголевских обносков; истлела последняя ветка той фальшивой, искусственной оливы мира, которую так мило и так долго подносила мне обворожительная, но хитрая Аврора Дюдеван. Я стал находить, что Гоголь какой-то гениальный урод, который сам слишком поздно понял весь вред, приносимый его могучим комическим даром… Я стал подозревать очень зло, что Дюдеванша (у которой я прежде желал поцеловать туфлю или подол и серьезно мечтал – съездить за этим во Францию, в Берри в самый Nohant[1]…) я стал подозревать, что она бывает поочередно то сама собою, то нет; то искренна, то притворна… В Лукреции искренна; в Теверино и милых пасторалях своих искренна; в «Грехе г. Антуана» и в других социалистических романах своих притворна; ибо она слишком умна, чтобы не понимать, что уничтожение повсюду монархии, дворянства, мистических, положительных религий, войн и неравенства – привело бы к такой ужасающей прозе, что и вообразить страшно!..