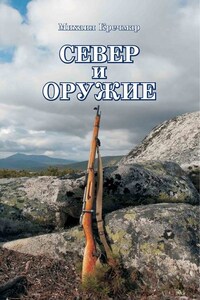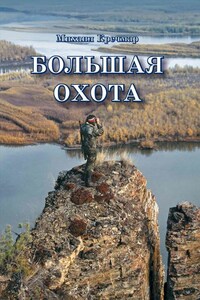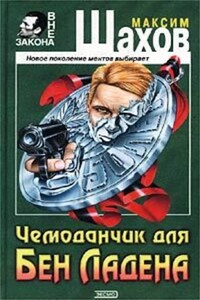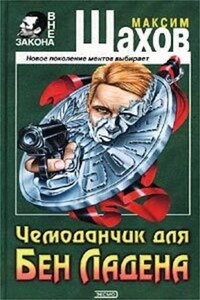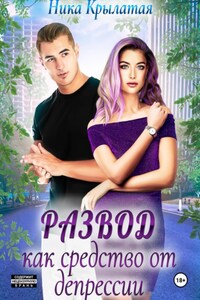Наступил жаркий по северным меркам день – 20 июня 1942 года. У норы, выкопанной под обширным кустом кедрового стланика, похожим на растущие из земли сосновые ветви, сидел старый сизый лисовин и, приоткрыв пасть, глядел на своих щенков, играющих на куче песка и мелких камешков. Щенки были страшненькие, неуклюжие, какого-то непонятного оливкового цвета, носики их были тёмненькие, а глаза узкие, и они очень смешно играли, повизгивая и покусывая друг друга. Лисовин глядел на них, распластавшись брюхом по нагретому камню. Он радовался выводку куропатки, который передавил сегодня поутру, когда глупые птицы ещё дремали в зарослях карликовой берёзки, одурманенные туманом и сумерками. Одного из этих птенцов он принёс лисятам, и они вдоволь успели наиграться, прежде чем задавили его насмерть. Старый лисовин был доволен собой, куропатками, камнем, который грел его брюхо, лисятами, и он ничего не знал о странных железных машинах, которые катили по выжженной солнцем степи в пяти тысячах километров от него.
А если бы и знал, то про себя бы усмехнулся по-лисьи, потому что никаким железным машинам не переехать четыре великие реки, не подняться по одиннадцати горным хребтам, не преодолеть хребет Джугджур и не выйти к побережью Охотского моря, где располагалось его, сизого лисовина, логово.
И тут его размышления и тихую животную радость прервало странное жужжание, приближавшееся с той стороны, куда всегда исчезало солнце.
Лисовин поднял уши (жужжание превратилось в отвратительный рёв), вскочил, закидал в нору ничего не понимающих лисят и, уже сам скрываясь в логове, увидал мелькнувшую над землёй тень. После чего земля вздрогнула, пахнуло чем-то чужим и страшным, и три входа в нору засыпало камнями и песком.
Старый лисовин рискнул вылезти из норы только в сумерках. Он был опытный лесной житель, и его обиталище имело восемь, а то и десять выходов. Лисовин сидел, прислушиваясь к странному, совершенно нездешнему звуку. Он раздавался время от времени, раз в три–пять минут.
На склоне сопки, там, где за камни ещё вчера зацепились несколько кустов стланика, громоздилось огромное сооружение, испускавшее чуждый острый запах и издававшее ритмичные звенящие звуки. Но сооружение не шевелилось, и лисовин направился туда небыстрой трусцой, готовый в любой момент скрыться в норе. Звуки не были живыми – по своей ритмичности они были похожи на морской прибой или скрип дерева о дерево во время ветра.
Неожиданно лисовин остановился – перед его лапами растеклась лужа остро пахнущей жидкости, такой же вонючей, как его, лисья, моча. Ему захотелось, высоко подпрыгнув, умчаться отсюда прочь, даже не в нору, слишком близко от которой расположилась эта страшная вещь, а на самую дальнюю марь в этих местах. Но любопытство пересилило, и лисовин двинулся дальше, оглядывая неведомое.
За несколько дней лисья семья привыкла к огромному сооружению, нависающему прямо над их гнездом, и лисята вновь принялись беспрепятственно шалить на песчаной куче под надзором старого лиса. Но вот однажды нос отца уловил в букете самых разнообразных запахов, издаваемых сооружением, один, уже очень знакомый с детства, – так пахло гниющее мясо.
Лис подошёл к исковерканной груде металла и приблизился к месту, которое напоминало ему лисий лаз, – запахом тянуло оттуда. Края этого отверстия были изломаны и страшны, в середине лета они блестели, как ледяные склоны гор в середине марта, и были так же холодны на ощупь. Но лисовина манила пища, и он втянул своё тело внутрь.
Он оказался внутри огромной пещеры, своды которой поддерживались рёбрами, изогнутыми, как стволы берёз, придавленных снегопадом. Потолок пещеры терялся для лисовина во мраке, и он, преисполнившись ужаса, опрометью выскочил наружу. Но сладкий запах тления тянул его внутрь, и лис, чуть поколебавшись, вновь исчез в рваной дыре. На этот раз он уже решительно побежал вперёд – по блестящему холодному полу, странно напоминавшему лёд, только покрытому ребристой насечкой, к освещённому пятну в конце этой странной ледяной трубы.