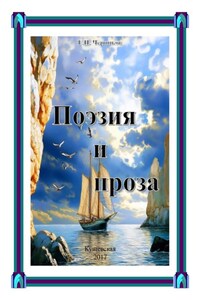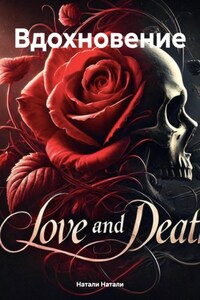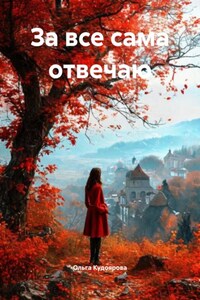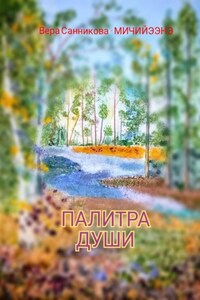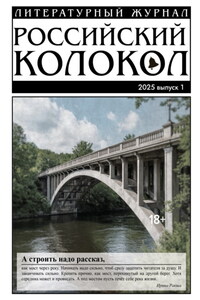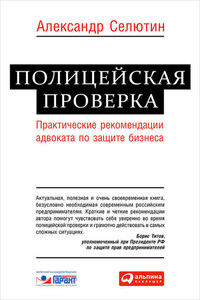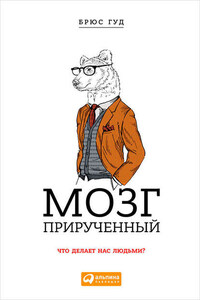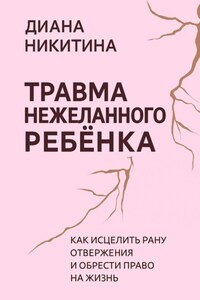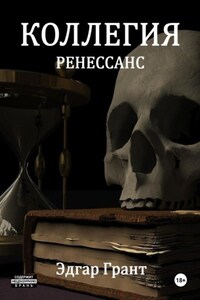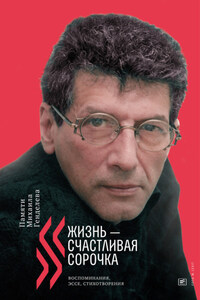
«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева
28 апреля 2025 года Михаилу Генделеву исполнилось бы 75 лет. «Поэт невероятного, головокружительного масштаба, он явно не занял того места в русской словесности, которое ему полагается по праву» (Михаил Эдельштейн). Сборник, приуроченный к юбилейной дате – это попытка друзей поэта, бывших рядом с ним в Ленинграде, Москве и Иерусалиме, создать портрет яркой и парадоксальной личности, гения двух стран и двух культур, автора концепта «израильской литературы на русском языке» и одного из самых ярких ее творцов. Важная часть этого портрета – избранные произведения Михаила Генделева, абсолютно узнаваемые не только по фирменной «бабочке» стихотворных строф, но и по мощи и оригинальности поэтического высказывания.
| Жанры: | Стихи и поэзия, Русская поэзия, Биографии и мемуары |
| Цикл: | Диалог |
| Год публикации: | 2025 |
Читать онлайн «Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева
Книга заблокирована.
Вам будет интересно