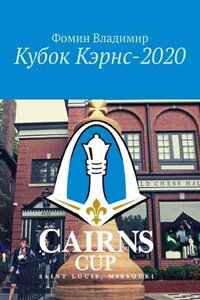– Прекратите ходить взад и вперёд!
– Надо же мне размять ноги.
– Прекратите, говорю: вы действуете мне на нервы!
– Но…
– Господи, как вы невыносимы! Угораздило же меня оказаться взаперти именно с вами!
Бросив на женщину мимолётный взгляд и вновь отметив про себя, как она хороша, Костя сделал почти незаметную недоумённую мину, хотел сказать, мол, мадам, вы сами, бывает, прохаживаетесь не меньше моего и тоже действуете мне на нервы, однако я терплю и молчу. Но, так и не сказав ничего, прошёл в свой угол и опустился на тощую подстилку, служившую постелью.
Не сказал потому, что на самом деле на нервы она ему не действовала. Её прогулки, сопровождаемые непринуждённым покачиванием бёдер, скорее, даже развлекали его, в какой-то степени рассеивая мрачные думы и внося нечто пикантное в их однообразное бытие.
Он следил за ней с отведённого ему места, удивляясь лёгкости её походки и грациозности каждого, даже самого незначительного движения. Эта женщина в его представлении была олицетворением женской красоты и сексапильности. Казалось, она вобрала в себя столько прелести, сколько могло принадлежать миллиону особ женского пола. Она должна бы волновать его, но на каком-то подсознательном уровне он категорически запретил себе поддаваться её чарам, поэтому за всё время совместного заточения кровь его так ни разу и не ускорила свой бег.
Половина помещения, где их содержали, – северный его торец – была вырублена в скале и напоминала пещеру. Вторая половина была сложена из тёмного, грубо отёсанного камня.
Костя обследовал в её стенах каждый шов, проверяя крепость постройки и надеясь найти что-нибудь шаткое, но камень лежал плотно и неколебимо и нигде не было ни малейшего намёка даже на подобие щёлки. Похожее на амбразуру продольное окно под низким, тяжёлым потолком было забрано стальными рифлёными прутьями в палец толщиной.
Что прутья сидят прочно, он понял сразу, как только очутился в темнице. И всё же с наступлением ночи он подступился к этим арматуринам, надеясь расшатать в кладке их концы и сделать пролаз. Цепляясь снизу то за один из них, то за другой, он рывками долго и упорно пытался ослабить каменные мурованные тиски. Тщетно: прутья не подались ни на миллиметр и даже не дрогнули, голыми руками их было не взять. Пробовал на крепость и дверь, врезанную в стену в метре от окна, но и она держалась намертво. Нечего было думать и о подкопе: сарай стоял на сухой, затверделой почве, и чтобы вгрызться в неё, без лома или хорошего кайла не обойтись.
Окно под потолком было единственным доступом к свежему воздуху. Притиснув лицо к его прутьям, Костя подолгу изучал открывавшийся пейзаж, состоявший из неровного тёмно-бурого грунта, за которым возвышались голые, унылые холмы, переходившие дальше в чёрные горные кряжи.
Местами, в разрывах между холмами, в низины спускались длинные языки бурых, с красными прожилинами песчаных дюн, переходившие у своей оконечности в широкие, плоские россыпи. Иногда поднявшийся ветер сгонял их ещё дальше вниз или перетаскивал то влево, то вправо относительно основного направления движения.
С другой, тыльной стороны сарая доносился непрерывный, монотонный шум волн, то затихавший, почти неслышный в слабо ветреную погоду, то наполнявшийся грозными нотками, когда ветер начинал дуть чуть сильнее. Костя поначалу думал, что это даёт знать о себе какое-нибудь озеро или широкая река.
За ночь сарай выстывал, железные прутья и каменная рама окна мокли от росы, к утру от холода начинали стучать зубы и тело бил судорожный озноб. Затем, в течение нескольких часов после рассвета, крыша и стены прогревались, постепенно приходило ощущение приемлемости существования, даже некоторые признаки комфорта. Но после полудня узилище, в которое их поместили, так раскалялось от солнечных лучей, что воздух обжигал кожу и не шёл в лёгкие. Костя искал спасения возле окна, но жуткий зной пёр и снаружи. Женщина держалась в северном конце сарая, прижимаясь к самому полу и скальной стене, видимо, не такой горячей.