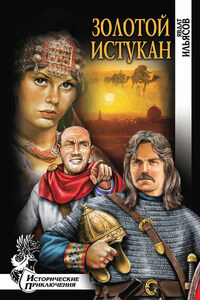Часть 1
РУСЬ. КОСТРЫ НА ХОЛМЕ
Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.
А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»
Зной. Безветрие. Скорбь. Чаден воздух над Росью. Плачут бабы – не хлебы пекут, жгут детей на кострах погребальных. Голод, хворь. Суховей пал в минувшее лето с вражьих степей. Надеялись нынче на милость Стрибожью, Хорсову жалость – опять обманулись.
Или мало их улещали? Отнюдь. К братчине звали, Незримых, под Новый год – последних овец извели, не скупились. До игрищ ли ярых было весной? Скудость. А справили масленицу, хоть и погрязли в долгах сверх бровей: старая чадь помогла, спасибо за щедрость такую. И Ярило – разве он забыт и обойден? Сыскали ему, как теплые дни приспели, утеху, ладную березу, невесту молодую. Лентами убрали белоногую, хаты увили зеленью, празднуя богово похотствие.
На Русальной неделе девушек нежных в листву обряжали, водой поливали до сини. Заставили их, невеселых, водить хороводы, венки плести из жесткой, плохо отросшей травы, в речку бросать обмелевшую. В ночь под летний солнцеворот – костры палить, С дружками прыгать через огонь. Иные падали, обжигались. Пусть. Лишь бы – ливень…
И вновь пригорело жито. Хилый урожай. Да и его дадут ли убрать подобру-поздорову. У неба – дождь запоздалый, град, и ветер, и молния. Близится страшный Родень.
В удачное лето – и то не брага льется в честь хмурого чура на требищах: режут быков ревущих, истово, с жутью в глазах, мажут кровью зубастую пасть истукана.
Что ж будет теперь?
Это случилось в полдень.
Они надвигались, сухо и четко брякая в унылой тишине, неотвратимы, отрывисты: словно упырь подступал, размеренно, с хрустом звенящим встряхивал костями на ходу.
Слухом Руслан уловил их давно – когда чужая поступь звучала еще вдалеке, у въезда в Семаргову весь, да отложил, не вникая в их суть: думал, кровь стучит в больных висках. Он был за печью, копался на дне хозяйственной ямы. А вдруг наскребет горсть зерна на похлебку?
Ничего. Одна пыль.
«Я – что пропойца Калгаст. Сходит в погост – издержится весь, до последней крохи, а утром, проспавшись, роется в легкой мошне: не осталось ли в ней на похмелье. Заведомо знает – пусто: так нет, трижды вывернет сумку, тряпье переберет, искать уже негде – сидит, шарит, точно слепой».
Он сплюнул горькую слюну, разогнулся, смахнул с ладоней пыль – и услыхал снаружи отчетливый стук, железный скрип, холодное позвякивание.
Дверь! Он с утра держал ее открытой. Жара, трудно вздохнуть. Пусть немного продует хату. Не ждал беды. Знал бы – явится лихо, бревном загородился изнутри. Теперь – поздно.
С обидой нынче богов поминал, старую чадь – людей родовитых в мыслях задел – вот и приспела кара. Неймется глупому! Сколько твердил себе: не ропщи, накажут. Другие ропщут – беги от речей досадливых. Нет! Словно змей угнездился в душе. Точит. Мучит. Спать, что ли, на ходу, чтоб не думалось? Блажь. Живешь – мыслишь. А жизнь какая?
Злые шаги проскрежетали у входа. Сплелись, оборвались, тупо заглохли. Будто цепь висячая упала, свернувшись. Руслан таился за плетеной стенкой, отсекавшей чулан от жилой половины. Хорошо – сумрак внизу. Не разглядеть сразу с улицы, есть тут кто или пусто в землянке. Взгляд сквозь прутья – наверх, по-рысьи вкрадчивый, из-под ресниц: глаза могут луч поймать, блеснуть, выдать.
Ниже порога, на первой ступеньке дерновой лестницы, чернела босая нога с тощей лодыжкой, охваченной тремя толстыми медными кольцами. К ним спадал обшитый крупными бубенцами край слепяще-алой, в желтых молниях, грубой ризы.
Хрип. Свист глухой. Точно бык вздохнул большой и хворый. Пола колыхнулась. Бубенцы загремели. В ушах Руслана, как напористый ветер в круглых днепровских раковинах, задрожал гнусавый свирепый звук.