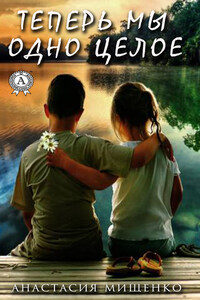Июнь 1855 года. Санкт-Петербург
Жемчужно-перламутровые сумерки клубились за окном. Тревожный сумрак окутал углы полупустой неуютной комнаты. Легкий ночной ветерок заставлял зябко поежиться, наполняя скромную обитель бывшего правоведа не душистой свежестью, а речной сыростью.
Петр Ильич, мучимый бессонницей и необъяснимой тревогой, уже час бессмысленно бродил по комнате, кутаясь в старую маменькину шаль. Вдохновения не было, в голову лезли прозаические хозяйственные мысли. Чем заплатить долги, на что купить нотной бумаги и как долго будут отпускать в долг в бакалейной лавке?
Ах, как легкомысленно он покинул службу, стоило ли так рисковать, мучился в очередной раз Петр Ильич, вспоминая сытые беззаботные годы службы, веселые дружеские обеды и ужины, походы в театр и на модные концерты. Да, служба была скучна, рутина отвлекала от занятий, но жить ведь тоже на что-то надо.
А еще папенька уехал с братьями на Урал, Леля Апухтин – в Москву, ни одной родной души в городе не осталось, вздыхал Петр Ильич, мучаясь от беспричинной тоски и одиночества и вглядываясь в светлые безрадостные небеса.
Его неподвижную задумчивость прервал тихий стук. Чайковский вздрогнул, рассеянно взглянул на часы. Пробило уже час. Кто же в такое время? Может, Ларош? Почему так поздно? Руки Петра Ильича отчего-то едва заметно дрожали, когда он отпирал дверь.
На пороге стояла дама…
Он безмолвно взирал на ночную гостью, гадая, не видение ли это, не галлюцинация ли переутомленного мозга.
Дама была облачена во что-то светлое, воздушное, как жемчужно-серебристое небо за окном. За дымчатой вуалью невозможно было разглядеть ее лица, только смутные очертания, огромные глаза, тонкий нос…
– Простите за поздний визит, Петр Ильич, – первой прервала затянувшееся молчание гостья. – Вы позволите войти?
– О да! Да, прошу прощения, входите. Я… Одну минуту… – суетливо сбрасывая с себя старую шаль, поправляя пиджак и приглаживая волосы, бормотал Чайковский. – Садитесь, прошу вас, – указывая на единственное имевшееся в комнате кресло, предложил он.
– Благодарю вас. – Голос дамы звучал мелодично, как будто чья-то рука нежно коснулась струн арфы.
– Простите, сударыня, мы знакомы? – завороженно глядя на гостью, спросил Петр Ильич.
– О да. И близко. – Сквозь дымку вуали лица гостьи было не разглядеть, но Петру Ильичу послышалась в ее голосе улыбка. – Но позвольте мне остаться инкогнито.
– Как вам будет угодно, – проговорил он, едва владея собой от волнения, в визите незнакомки было что-то мистическое, будоражащее. – Но что же привело вас ко мне в столь поздний час?
– Сущий пустяк. – Вновь прозвучала арфа. – Я принесла вам маленький подарок в знак моего восхищения вашим талантом.
– Моим талантом? Но разве вы слышали мои сочинения? – удивленно спросил Петр Ильич. – Нет-нет. Помилуйте, я ведь едва начинаю… Я всего лишь скромный учащийся консерватории. Вы, должно быть, перепутали меня с кем-то.
– Поверьте, Петр Ильич, это исключено, – категорически возразила гостья. – И вот мой подарок. – Она извлекла из маленького шелкового мешочка вытянутую бархатную коробочку, щелкнул замочек, и что-то тепло блеснуло в неверном свете белой ночи. – Это золотой камертон, – пояснила дама, протягивая его Чайковскому.