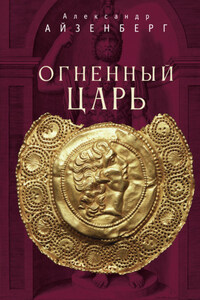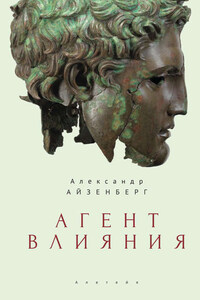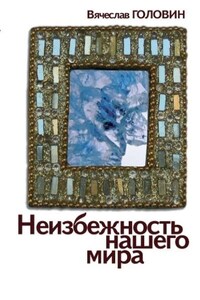ЛЕДЯНАЯ ГОРА СРЕДИ ГОРЯЧИХ МИРАЖЕЙ
«Нечто устанавливает ничто»
Александр Айзенберг. Исторические голографии
По ходу дела я надеюсь сообразить, что в этой фразе подлежит, а что дополняет подлежащее. Но прежде хочу признаться, сколь остро жалею, читая Айзенберга, что ушла от нас красавица Одесса в украинскую незалежность: не знаю, как принимают его прозу в тамошней литературной ситуации (я после развала Союза перестал за нею следить), но в ситуации российской эта проза вызвала бы сейчас, я думаю, воспалённо горячий отклик.
Она рождена на границе наших литератур. Носители суржика с неутихающим самозабвением корёжат русскую речь, как корёжат и мову, но ведь и жизнь этих людей корёжит.
Что за жизнь?
Неуловимое «нечто», ускользающее как «ничто».
1919 год. На Украине – гражданская война. В местечке – петлюровцы. В подвале, не дыша, – евреи. Вдруг начинает плакать младенец. Демаскировка смертельна! Один из затаившихся берёт младенца, осторожно выносит из подвала и кладёт на снег.
На снег – на смерть?
Всё описано «исчезающими штрихами». Пуантилистски, – как сказали бы живописцы изысканного стиля. Но здесь стиль не изыскан – он западает в немоту. В ничто. Слышны только звуки недалёкого погрома. Да плач неутихающего младенца. Потом – скрип сапог: кто-то его уносит.
Уносит – в небытие.
Ситуация – пунктир небытия, а тут – явная гибель: петлюровцы кругом. Это же непредсказуемо!
Непредсказуемо: не петлюровец подбирает ребёнка, а случившийся здесь петроградский рабочий. Так же непредсказуемо в ходе боевых действий местечко отвоёвывают красные. И забирают младенца.
Так смысл неожиданно прорисовывается в смертельной бессмыслице. Он, смысл, брезжит из ничего, он ничем не гарантирован, он разомкнут в небытие, и нужна только ещё одна точка – замкнуть его…
Младенец выжил. Вырос. Реализовался как действующий участник истории.
25 лет спустя он брал Кенигсберг.
Эпизод – поразительно важный при ответе на вопрос о смысле событий, кажущихся непоправимо бессмысленными, трагически безысходными, невменяемыми в беспощадности.
Что-то, значит, стоит за этой антижизнью. Что-то невидимое, неощутимое, спрятанное за этим «ничто».
Разгадать неугадываемое, объяснить необъяснимое, поймать неуловимое – этим желанием продиктована и странная художественная фактура. Этюды, исполненные в «воздушной», пуантилистской технике перемежаются с плотно, густо, иногда тяжеловато написанными рассуждениями «Из философских тетрадей» — о том, можно ли и как можно познать это не поддающееся познанию бытие.
Чем фундаментальнее вопросы, тем острее скальпель анализа. Особенно те вопросы, что в качестве основных обкатаны марксизмом.
«Основной вопрос философии. Что первично: материя-бытие или сознание? То есть, кто прав: идеалисты или материалисты?»
Да это же зависит от того, на какой ноге стоять: на правой или на левой. А если на двух, так это всё равно, что на 22-х. Перебор неизбежен. Кто автор драмы бытия? Драматург? Он только соавтор. А спектакль, без которого пьеса мертворождённа, создают ещё и режиссёр, костюмер, художник, сценограф, актёры, а по нынешним временам ещё и спонсор… Что же такое «первичность»? То, что мы в данной ситуации считаем точкой опоры! Временной или постоянной, неважно.
Чтобы уравновесить этот агностический синдром, мобилизуется следующий основной вопрос… но не философии, а потребления:
«Жареных тараканов продолжают есть в Таиланде, но в стране, где можно есть вареники с творогом или там с вишнями, – тараканы, как часть меню, вряд ли имеют шансы на массовый успех».
Зато в родных палестинах у тараканов – все шансы. Особенно если понятия подкрепляются заклинаниями. Например: