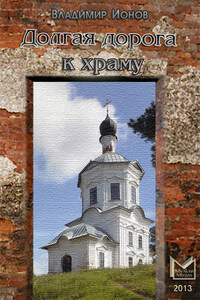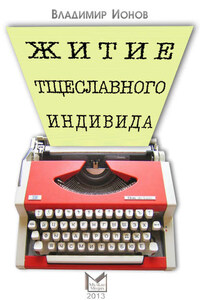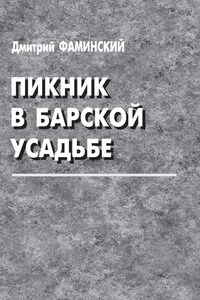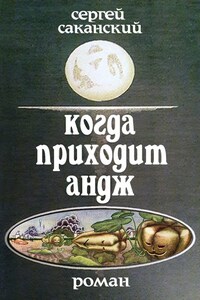Степан держит дверь, чтобы не захлопнуло потянувшим откуда-то сквозняком. Теперь и Любе надо выйти к столу. Оставив шубу на спинке стула, она поднялась и увидела себя в зеркале. Увидела как чужую, малознакомую. Вся в чёрном – к лицу это ей – молодая, гибкая, красивая. Но усталая. Очень усталая. Люба прищурила глаза, чтобы лучше вглядеться в лицо этой малознакомой, и узнала в ней себя.
«Это я так устала, – сказала она себе. – Глаза ввалились. И бледная-бледная. Это от чёрного».
– Чего же это зеркало-то не занавесили? – спросил Степан и, придерживая валенком дверь, потянулся, чтобы увидеть Любу не только въявь, но и отражённой. Увидел. И будто его обдало чем – то ли холодом, то ли жаром, плеснулась в лицо какая-то сила, заставила отступить на прежнее место. – Не принято на похоронах с открытыми зеркалами, – трудно переглотнув, проговорил он с порога.
«Поминки у нас, – напомнила себе Люба. – Поминки по Анатолию. Потому я и стала такая».
Она почувствовала, что к глазам подступают слёзы, и чуть откинула голову, чтобы они не выкатились на ресницы. Она вообще легко управляла слезами, наполняя ими глаза, когда нужно показать глубину чувства – радость до слёз, грусть до слёз или обиду. Для этого ей надо было просто захотеть, чтобы они заблестели, и слёзы подступали к глазам. Сейчас они накатывались сами, и ей осталось только постараться не пролить их через ресницы.
– Там у всех уже налито, ждут хозяйку, – глухо сказал Степан. – Надо бы выйти.
– Конечно, надо, – согласилась Люба и, продолжая видеть себя в зеркале, подумала: «а это даже лучше, что слёзы в глазах».
Степан прижался к косяку, вытянулся, пропуская Любу мимо себя, но она остановилась в дверях, полностью повернулась к нему, почти касаясь.
– Много народу пришло? – спросила она.
– Порядком, – выговорил он, трудно переглатывая воздух, которого ему не стало хватать от её близости.
– А те не уехали? – поинтересовалась Люба, сохраняя между собой и Степаном то пространство, что позволяет чувствовать человека, еще не коснувшись его, и даже, пожалуй, острее, чем коснувшись. И, слыша сквозь тонкий жирок воздуха, что остался между ними, мандраж смятения молодого здорового мужика, она с удовольствием – неожиданным сейчас для себя – подумала: «Господи, я ещё кого-то волную…»
– Альбина Фёдоровна, что ли? – густой голос Степана надломился до высокой ноты, и его хлестнуло жаром стыда перед нею: ведь не маленькая, понимает, какая сила ломает ему голос. Нашёл, скажет, время, бугай.
Он догадался ступить в сторону и отвернуться от неё и уже с безопасного расстояния ответил:
– Вроде не уехала. Парни, дак оба здесь.
– Их дело, – заключила Люба и, опустив со шляпки короткую вуаль, пошла в зал.
В просторной столовой, построенной уже при Анатолии Сафроновиче и отделанной на его вкус светлым деревом, было солнечно, как весной, и пахло свежим еловым лапником, набросанным на пол, на подоконники и даже на стол. Люди попытались занавесить большие окна, но тонкие золотистые шторы едва смягчали ярость случайного зимнего солнца, и зал, убранный для скорбной трапезы, казался праздничным. Народ вот только в большинстве получился какой-то всклокочено-будничный – в помявшихся под пальто и шубами пиджаках и кофтах, непричёсанный.
Люба ещё из коридора схватила всё это одним взглядом – и нелепую праздничность обстановки, и пугающую помятость людей. Увидела она и Альбину Фёдоровну с сыновьями. Она потерянная. Они безразличные. Значит, Любе остаётся быть торжественно-печальной. Она расправила плечи, опустила ресницы и медленным, очень ровным шагом – «жалко, что платье не в пол», – прошла к столу. Не поднимая глаз, поняла, что все теперь глядят на неё, больше оценочно, чем с сочувствием, и в образовавшейся нестройной тишине уловила шёпоток, невнятный, но лестный по тону. «Вот так, Люба, и держись», – наказала она себе.