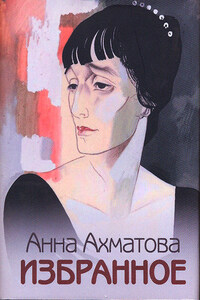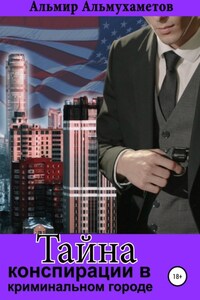«Узнавать своих по крови да по породе…»
Узнавать своих по крови да по породе, счастье острое припрятывать в голенище. У нее тропа лежит, где народ не ходит, где скот не бродит, где зверь не рыщет.
Кто не снится ей, тому ее не бывает. По лесу мелькают тени, летают птицы. Деревья руки держат над головами, камень огонь выбивает, которое лето длится.
Она слышала: филин ухал, сова вздыхала, летучая мышь свистела и перестала. Она видела: лес качался, как опахало, заря над ним восходила и потухала, к заутрене холодало.
«Я отрицаю все, что было мной…»
Я отрицаю все, что было мной, еще вчера казавшееся важным – песочным замком, парусом бумажным, водой и ветром, призрачной стеной. Нас не было – в моих черновиках не сохранилось писем и рисунков. Нас не было, идут вторые сутки безвременья, застывшего в веках. Свободы нет, как нет и темноты, что отменила это заточенье. Когда пришла пора менять теченье, достаточно движения воды.
Не помню лиц, не знаю, не зову, определяя по координатам ту женщину, которой я когда-то самой себе казалась наяву.
«А сила твоя не в том, чтоб меня ломать…»
А сила твоя не в том, чтоб меня ломать.
И правда твоя не в том, что тебе казалось.
Из трех твоих женщин с тобой остается мать,
Которая никогда тебя не касалась.
Из трех твоих стран с тобой остается та,
В которой сегодня тебе не найдется места.
Такая внутри огромная пустота,
Что сердцу в ней слишком тесно.
Из трех твоих жизней, что держит тугой капкан,
Одна продолжает еще говорить о чем-то.
Когда досчитаешь до трех – замолчи, пока
Не сбился со счета.
«Мне скоро тридцать, мама…»
Мне скоро тридцать, мама, давай подумаем, как нам было.
Как крепко ты никогда меня не любила, как страшно не скучала и не боялась. Я твоя обреченность, мама, твоя усталость, твоя затяжная бессонница, горечь, жалость. И все эти годы я за тебя держалась, жалась к тебе, слабела, тобой болела. Я не успела, мама. Я не успела стать тебе чем-то, кроме знакомой тени. Мы приходили не с теми, уйдем не с теми.
Мне скоро тридцать, я вижу, что будет с нами.
Мама, мы никогда себя не узнаем.
Я была тебе ложью, была тебе сожаленьем. Мне хотелось приехать, уткнуться в твои колени, лежать под твоей ладонью, не остывая…
Так не бывает, мама. Так не бывает.
«Я ждала ее, она ко мне приходила…»
Я ждала ее, она ко мне приходила.
Садилась у изголовья, смотрела жадно.
Во мне выцветала кровь, вырастали жабры,
Мне снились донные рыбы и крокодилы,
Душа отражала звуки, как перепонка,
Мир погружался глубже, мы плыли вместе:
Горькие слезы женщин, костры и песни.
«Это все сентябрьская сутулость, хроническая усталость…»
Это все сентябрьская сутулость, хроническая усталость, депрессивный синдром, зависимость от погоды. Становишься частью комнаты, пола, стула, частью того, что еще осталось, пытаешься быть равнодушным, но ждешь исхода. Прошлое вспоминается кадрами, цветными вспышками, крупными планами, непригодными для работы. И все со своими правдами, с чужими книжками – пустые беседы, проверенные остроты.
Чувствуешь себя не в своей тарелке, в недоброй притче.
Темнеет так быстро, что впору вооружаться.
Наше время уходит из города. Как обычно – даже не пытается задержаться.
Весна для выживших. Из выцветших палат, из рукавов больничных коридоров мы тянемся за дозами тепла, слабее слов, прозрачнее стекла, мы покидаем сумрачные норы.
Идем к весне – в пижамах, босиком, с катетерами в венках подключичных, и ладанки на тонких шеях птичьих боготворят детей и стариков.
Весна для выживших. Хвала прошедшим тьму, дождавшимся весны, как откровенья. Мы друг за другом тянемся, как звенья.
Он соберет нас, наберись терпенья.
Идущий первым, улыбнись Ему.