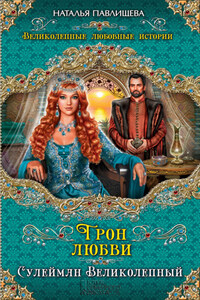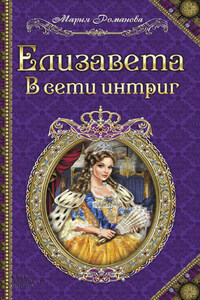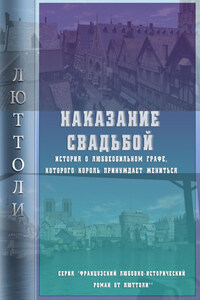Глава I
С вами не соскучишься…
«Последний вечер в дороге, ночь в трактиришке, ещё немного мучений, – маркиз мысленно загибал пальцы, – и здравствуй, мой Санкт-Петербург!»
Чем ближе к северной столице, тем меньше надежд на раннее тепло. Тысяча восемьсот двадцать шестой год в этих краях весну ещё не вспоминал – всё было тщательно занесено снегом, за окнами экипажа тянулось однообразие, которое склоняло если не к размышлениям, то ко сну. Маркиз де Шале выглянул в окно и тут же откинулся на спинку сиденья, еле сдержав стон. На его холёном лице нетерпение сменилось скукой, и в глазах, цвета отдалённо похожего на зелёный, угас последний интерес к происходящему. Он поднял воротник шубы, непременно модной в России зимой, и спрятал пальцы в длинные рукава.
– Пожалуй, надо вздремнуть, иначе я вывихну челюсть, – сообщил он спутнику, и, тягуче зевнув, ущипнул себя за ухо. – А вы не хотите поспать?
– Гостиница скоро, – напомнил Ильин, тоже выглядывая в окно.
– Ха! Очередной клоповник! – маркиза передёрнуло. – Каждая ночь в подобном заведении становится для меня настоящим испытанием. Увы, мой друг, не все столь выносливы и мужественны, как географы-путешественники.
Поёжившись то ли от холода, то ли от ощущений, вызванных предстоящим ночлегом, Шале в который раз недоумённо посмотрел на спутника – маленький, щуплый, а сутками мог безнаказанно не спать и мёрзнуть… ни денег, ни семьи, ни славы, зато точно знал, зачем топтал эту грешную землю. «Тоска», – решил про себя маркиз, и, поправив подушку, прикрыл глаза. «Дитя», – усмехнулся про себя Михаил Иванович, глядя, как тот сунул ладонь под щеку и потешно сгримасничал.
«Дитю» было лет тридцать пять, не больше. Ильин настолько привык за время поездки к лицу маркиза, что память начинала его подводить: казалось, будто это лицо он уже где-то видел, и что-то неуловимо знакомое было в потешной мимике, привычке морщить нос и лукавом прищуре. Но чем больше Михаил Иванович напрягал память и строил предположения, тем отчётливей понимал, что их пути не могли пересекаться хотя бы по той причине, что слишком далеки они были друг от друга – по образу жизни, мышления и социальному положению в обществе. К тому же лицо маркиза было запоминающимся: без особых примет, но очень пропорционально начерченное матушкой-природой, по-мужски красивое, привлекательное. Заметив такое лицо, его легко было бы вспомнить. Ильин сам носил баки, видел их на сотнях других мужчин, но не предполагал, что кому-то они могут настолько идти. Маркиз умел носить всё: и те самые баки, и модно зачёсанные тёмно-русые волосы, и дорожный костюм, и шубу. Его можно было бы назвать элегантным, если бы не некоторые привычки, в том числе и привычка брюзжать. Весьма неоднозначно воспринимался этот француз – при всех его природных и материальных данных он вызывал своим поведением необъяснимую симпатию и снисходительность одновременно. Иногда Ильин видел, что маркиз действительно утомлён и раздражён неудобствами длительного переезда, но чаще за ним наблюдалось некое детское дурачество, от которого сам маркиз, казалось, получал удовольствие. Уже после первого дня знакомства, этого удивительного француза воспринимать серьёзно становилось нелегко.
А всё началось с того, что с месяц назад маркиз де Шале разыскал Михаила Ивановича в Лионе и передал ему пакет от генерала Бенкендорфа[1] с настоятельным приглашением вернуться в Петербург. На недоумение географа маркиз ответил весьма пространно, и убедителен был лишь в том, что генерал устраивает будущее России. Надежда на то, что будущее России как-то связано с последними географическими открытиями, внушила Михаилу Ивановичу определённые мысли и поторопила принять неожиданное приглашение… Полдороги Шале настойчиво вспоминал свою юность: блестящее образование, путешествие по Европе, престижные салоны. Ильину пришлось узнать о подробностях, на которые он никак не рассчитывал, и от которых некуда было деться. Но, по мере приближения к Петербургу, маркиза всё основательней стало клонить к разговорам о России, о жизни этой загадочной страны, о русских и об их привычках. Он много говорил о своём писательском труде и намерении раскрыть новые образы, правда, какие именно, не уточнял. Француз расспрашивал обо всём, что приходило на ум, иногда вынимал довольно потрёпанную тетрадь и что-то в ней записывал, или пытался зарисовать. Не один карандаш был безжалостно сломан и выброшен по ходу творческого процесса, сопровождавшегося яркими комментариями самого творца. И всё же деревья в набросках были вполне узнаваемы, а вопросы к географу вполне безобидны…