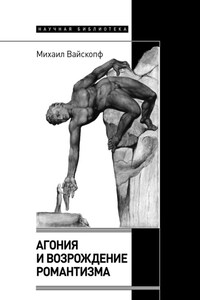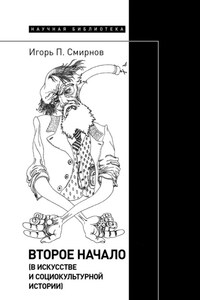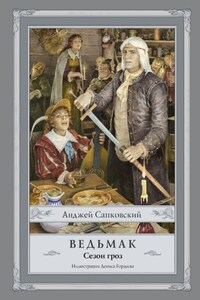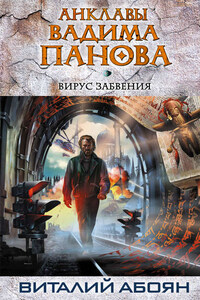Перед вами второй сборник моих работ. Предыдущий, изданный «Новым литературным обозрением» в 2003 году под названием «Птица тройка и колесница души», состоял из публикаций, накопившихся за двадцать пять лет (с добавлением перепечатанной книжки о Маяковском). С тех пор у меня появилось немало других статей и сообщений и вышло несколько монографий. Одна из них, «Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма» (НЛО, 2012), содержала пространный анализ русской романтической школы, взятой тогда в рамках ее базовой пушкинско-гоголевской стадии. Теперь эту проблематику, но в ином жанровом формате, я пытаюсь провести сквозь весьма разнородный и разновременной материал – в диапазоне от Лермонтова до Набокова. Ведь русская романтика являла себя в бесчисленных перевоплощениях – модернистских, авангардистских и прочих. Порой она внятно пробивалась в мощном, хотя все же промежуточном реализме – причем не только у Тургенева, Достоевского или Гончарова, где ее присутствие самоочевидно, но и у принципиального антиромантика Толстого и даже, весьма ощутимо, у Чехова. Позволю себе сослаться здесь на концовку «Демиурга»: «Романтизм был вовсе не мостом к великой русской литературе, а ее непреходящей живой основой, соками которой она питается и поныне». В согласии с такой установкой, «Агония и возрождение романтизма» – это целостная книга.
Отслеживая по мере сил строение и многосложный генезис рассматриваемых тут сочинений, особенно советского периода, я старался плотно встроить их в насущный контекст. Бывают рифмующиеся даты, которые знаменуют закат культурной эпохи. Романтический золотой век иссяк где-то к началу 1840-х годов, физически подытоженный смертью Лермонтова, а нарративно – «Шинелью» и «Мертвыми душами» Гоголя. Русский неоромантизм был раздавлен (или все же придавлен) через сто лет – вместе с его создателями, да и вместе с остальной русской литературой. Под новый, 1939 год в лагере умучили Мандельштама, а через полгода в свободном Париже в свободной нищете скончался Ходасевич. В январе следующего, 1940 года чекисты убили Бабеля, в марте умер Булгаков, а в августе 1941-го повесилась Цветаева; прибавим к этому мартирологу Введенского и Хармса, тоже уничтоженных властями в начале войны. В мае 1940-го последний великий русский романтик Набоков успевает бежать от наступающих нацистов из Франции в США, где станет, однако, уже не русским, а американским писателем, сумевшим адаптировать свой эмигрантский опыт к совершенно новым условиям.
Предлагаемая книга по возможности охватывает этот гигантский столетний цикл, освещая самые примечательные его сегменты. В качестве широкого, но решающего критерия мы берем здесь метафизическую доминанту, отличавшую любые версии романтизма, вне зависимости от того, как официально называли себя сами его адепты[1]. Я говорю о неизбывном, то пассивно-мечтательном, то титаническом субъективизме, доходящем подчас до надменного мессианства; о неприкаянных либо брутальных отщепенцах и странниках; о сакрализованной ими любви; о сплошной, то радостной, то гнетущей анимизации природного и предметного мира; о вере в тайну (которая при случае получала и криминально-готическую окраску); о томлении по инобытию и бесконечности – а часто и по кончине, как собственной, так и всего человечества. Обо всем этом написано слишком много, в том числе автором настоящей книги, чтобы на ее пороге громоздить дополнительные определения.
Первая ее часть приурочена к первой же половине XIX столетия, с некоторыми выплесками в смежные годы. Вторая посвящена Фету – крупнейшему поэту второго, антипоэтического, полувека, смонтировавшему, однако, свою лирику с житейской прозой. Третья, наиболее многолюдная часть сборника, рисует пестрые модификации романтики в ее предсоветские и особенно советские годы.