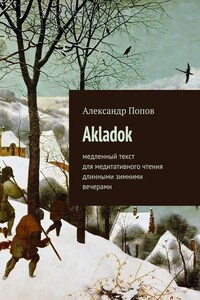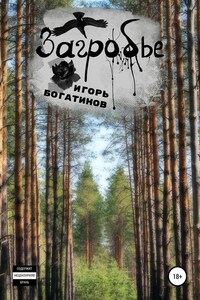– Здравствуйте. Вы меня узнаете?
Это произошло уже давно – почти три часа назад. Тогда Любовь Бродбаум, кандидат психологических наук, ныне совладелец небольшой американской продюсерской компании, проходила таможню в аэропорту Шереметьево и пробовала осознать, что она вернулась.
Это было не самым эксцентричным желанием в ее жизни. Прочувствовать, что еще сегодня она вела большой американский автомобиль по subway, subway шел среди холмов с желтой как солома зимней американской травой, а ее мысли текли обычным деловым американским путем: где поставить машину; какие инструкции она не успела дать Луису; верно ли она планирует построить переговоры с Мосфильмом; какие подарки своим, теперь уже немногочисленным московским друзьям нужно будет докупить в duty free. И вот – она здесь. В городе, где всегда грязный асфальт, где таксисты напоминают жуликов или мафиози, где кругом жуткая зимняя слякоть, необходимость нескольуо раз в день чистить обувь и… совсем, совсем другие мысли.
Огни Москвы.
Эти огни всякий раз вызывали сложный букет чувств. Примерно такой, какой может вызвать когда-то близкий человек, который так и не научился жить, опустился, пьет и теперь живет в мире, здорово отличным от твоего. А ты помнишь его таким, каким он был тогда, когда был близким. Юным, мужественным, блестящим и подающим надежды. И вот, когда самолет пронес ее тело над зимними елями, над водохранилищем, недалеко от которого построил дом ее первый муж, над новыми котеджами и старыми засыпанными снегом складами; когда она, наконец, шла по грязно-зеленому полу аэропорта, и ей что-то никак не давало по-настоящему осознать, что она действительно здесь: что самолет таки пересек Атлантику и большую часть Европы, что вокруг уже одетые снегом и инеем подмосковные леса, что впереди мокрый, грязный и сверкающий брызгами этой грязи город, в котором она оставила часть своей жизни, – кто-то осторожно тронул ее локоть, и нежный жеский голос сказал:
– Здавствуйте, – и спросил, – Вы меня узнаете?
И она вздрогнула, словно это был почтальон с телеграммой и скрбным лицом.
Но это был не почтальон. Перед Любой стояла вторая (или четвертая – зависит от того, как считать) жена ее первого мужа Настя и улыбалась. Почему это так ее поразило?
У Насти очень хорошая улыбка: лучистая, в меру решительная, в меру робкая, в меру деликатная. И еще немного такая, как у Алекса, – как по студенческой привычке звали ее бывшего мужа друзья – только без той доли хитрости, которая неизменно была в его глазах, что бы тот ни делал. Теперь даже интересно, у нее эта улыбка, от него или своя? Но тогда на Любу вдруг повеяло неким ужасом. Словно она вдруг вспомнила, что не выключила утюг или забыла об очень важной встрече.
Почему?
Настя летела из Парижа, где работала последние несколько месяцев. Семен, друг и однокурсник Алекса, познакомил их в один из ее приездов в Москву, и они довольно много общались. Приятная милая девушка, к которой у Любы остались самые добрые чувства. Теперь Настины отношения с Алексом разладились, у нее какой-то контракт с французами, и вот она прилетела на рождественские, по европейским традициям, каникулы и… оказалась первым человеком, которого Люба, тут встретила.
– Вы меня узнаете?
Нет, что-то не так. Гражданин Соединенных штатов Америки Люба Бродбаум уже давно не поддавалась смутным и непонятным предчувствиям. Родившаяся в небольшом сибирском городе, она привыкла, что все человеческие действия можно объяснить. И даже живя в Москве, даже изучая запрещенного в те годы Фрейда и Юнга, даже будучи три года замужем за таким необъяснимым человеком, как Алекс, она, всегда находила понятную причину своих побуждений, или, по крайней мере, была уверена, что может ее найти. Если захочет. Но вот прошло уже три часа, а она сидит на старом диване, пахнущем пылью еще советских времен, наблюдает, как за окном квартиры, которую ей заранее сняли друзья, сгущаются ранние декабрьские сумерки, и никак не может понять, причину своего беспокойства. Беспокойства, которое, как и тогда, в аэропорту, безо всяких объяснеий собирается перерасти в страх.