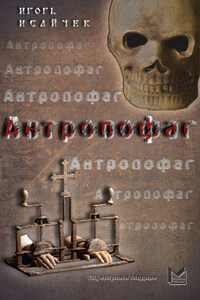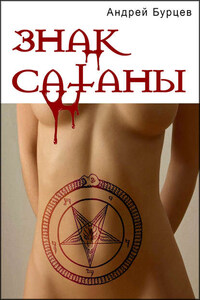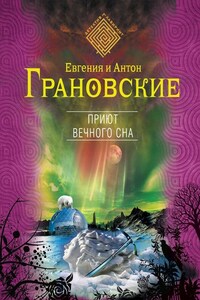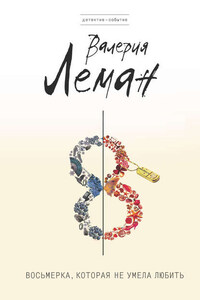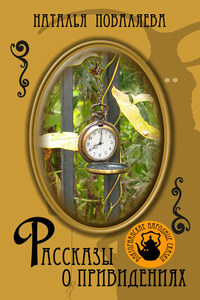О приходе в этот мир Ефим известил округу истошным воплем, до икоты перепугавшем даже видавшую виды дебелую повитуху, аккурат в Петров день 1784 года от рождества Христова.
Отец его, колченогий Пахом, с самой юности любивший крепко заложить за воротник, уже в зрелом возрасте сошелся с пересидевшей в девках, даже по деревенским меркам уж слишком простоватой Параськой. Вечерами, перебравши дрянного вина, на забаву соседям он развлекал себя тем, что с безумным звериным рыком таскал жену за косы по двору. Затем пинал со всего маха в живот и, несмотря на гулявший в голове хмель, недрогнувшей рукой с одного удара рассекал сыромятиной вожжей ветхую ткань сорочки и живую кожу под ней. Однако нежданно-негаданно для общества на старости лет умудрился прижить от нее нежеланного отпрыска.
Крестили Ефима, едва ли не годовалым, да и то исключительно по настоянию местного батюшки, долго стыдившего непутевых родителей. В три года отроду малец едва не отдал Богу душу, подхватив свирепствующую в губернии и косившую всех без разбора черную оспу. Но, на удивление, страшная болезнь не пристала ни к ходившей за сыном Параське, когда-то в детстве перемогшейся схожей заразой, подхваченной от коровы, ни к отцу-пьянчужке, вообще благоразумно сбежавшему в разгар эпидемии в лес. Самому же, чудом выкарабкавшемуся Ефиму, на вечную память остались глубокие темные рытвины по всему телу, особенно заметные на щеках.
Так они и жили втроем, не шатко, ни валко. Ефим подрастал, с малолетства приучаясь к работе по хозяйству. С семи лет он уже вовсю браконьерил с отцом на арендаторском озере, помогая расставлять сети, а затем выпутывать из них рыбу, которую Пахом за гроши сбывал путникам на тракте.
Как-то по осени, когда ближе к закату Ефим привычно собрался на промысел, отец нежданно велел остаться на дворе, отговорившись тем, что в этот раз у него уже есть помощник. Не привыкший задавать лишних вопросов мальчишка послушался, но, ни на следующее утро, ни через неделю Пахом не вернулся, бесследно сгинув вместе с лодкой.
Параська, на словах не раз принародно грозившая отравить мужа за беспричинные побои, после его пропажи, казалось, окончательно лишилась остатков рассудка. Забросив дом и сына, она, ревя белугой, оборванная и простоволосая, целыми днями металась по заросшим топким берегам, разыскивая хоть единый след исчезнувшего Пахома, возвращаясь затемно, чтобы с первыми петухами вновь приняться за свои тщетные поиски.
Когда же однажды не вернулась и мать, всю бесконечную ночь простучавший зубами со страху, ни на мгновение не сомкнувший глаз Ефим, с проблеском зари со всех ног кинулся на озеро. В тайном месте, где обычно прятал лодку отец, он увидел леденящую кровь картину. На нижнем суку старой, неохватной березы с размозженной молнией вершиной, на непонятно как оказавшихся тут вожжах, под порывами свежего утреннего ветра медленно покачиваясь, висела Параська. Помертвевший мальчишка застыл, прикипев взглядом к неузнаваемому, набрякшему и посиневшему лицу. Но особенно потрясло его зрелище вывалившегося сквозь черно-фиолетовые губы чудовищно распухшего багрового языка.
Помутневший Ефим поначалу никак не мог понять, кто же так надрывно и отчаянно воет, пока надорванную глотку не опалило нестерпимой болью. Его ноги подкосились и, сломавшись в поясе, он упал на колени, со всего маху уткнувшись лбом в податливо-мягкую землю. Когда же немного рассеялась тьма в глазах, Ефим, не чуя под собой ног, и захлебываясь, наконец прорвавшимися слезами, кинулся обратно в село.
По указанию старосты, тут же распорядившегося направить гонца в уезд, покойницу сняли и пристроили в леднике. Прибывший на третий день в сопровождении строгого сухопарого доктора соцкий, в селе задержался недолго. После поверхностного осмотра тела ожидаемо признал кончину Параськи типичным самоубийством, и дозволил погребение. На пропажу Пахома полиция и вовсе не обратила никакого внимания.