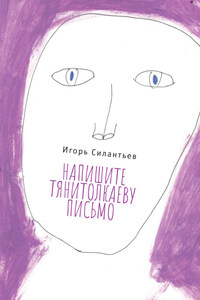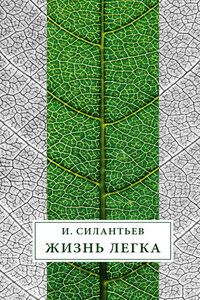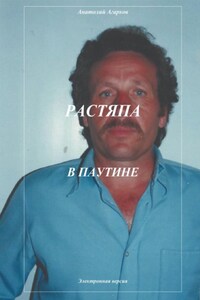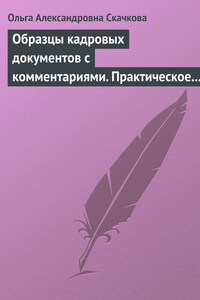Фонарь на железнодорожной станции был очень стар. Его почернелое бетонное тело покрывали глубокие трещины, из которых выступала арматура, будто кости. И чтобы усталая плоть фонаря окончательно не распалась, его снизу доверху стянули железными скобами.
Но и они уже успели проржаветь.
На одной из них, на высоте поднятой руки, висело пальто.
А с утра и весь день густо сыпал дождь, и висевшее пальто, наверно, было самым вымокшим пальто во вселенной.
Рукава его набухли влагой и отвисли. И карманы отвисли и распухли, будто набитые комками газетной бумаги.
Но вместо бумаги там была вода.
Вода просачивалась сквозь темные ткани пальто и веером капель стекала с рукавов и подола на асфальт.
Вечером дождь перестал и задул ледяной ветер. Подбирался ночной заморозок.
Кристаллы льды покрыли асфальт. И фонарь тоже заблестел льдом. И пальто стало не сразу, но ровно замерзать, коробиться и деревенеть в своих складках и отвисших формах, а потом рухнуло вниз. Это, наконец, лопнула петелька, круглый день жертвенно и бессмысленно удерживавшая пальто на болте, стягивающим фонарную скобу.
Под жидким лучом фонарного света пальто привалилось к столбу, будто пьяный прохожий, не справившийся с дорогой и припавший на колени и опустивший голову и почти уснувший.
Собственно, и все.
– Да нет же, не все! Афоня, вставай, пьяный дурак, замерзнешь!
Кто это сказал? Привалившийся к столбу бомж Афоня вздрагивает, пытается встать, на коленках отползает от фонаря, наконец, привстает – и в зубовном стуке и костном хрусте, в утробном рыке и зверином мычании вразвалку бежит от холода в спасительный, но еще такой далекий люк теплотрассы на пустыре за многоэтажками.
Еще три квартала! Два! Теперь поворот! Д-д-д! Это зубы стучат. Вот он, наконец, этот люк, вниз, брык, в теплую вонючую темноту, там Люська дрыхнет на дырявом матрасе. Другой матрас заслоняет трубы. Это важно. Во сне, если привалиться к трубе теплоцентрали, можно получить глубокий ожог.
Афоня, все еще дрожа, приваливается к храпящей Люське и замирает. Пальто и грязное тело в нем медленно наполняются теплом. Пальто! Афоня до сих пор не может поверить в великую удачу. Он нашел это пальто неделю назад, колом застывшее, у фонарного столба на станции. Бомж так и утащил его, обхватив, будто человека, в свое убежище, а потом долго сушил на трубах, а потом примерял это широкое, впору, теплое пальто с высоким воротником, не дырявое, не гнилое, молью не поеденное, откуда оно взялось там ночью, на улице?
Афоня лежит на спине, согрелся, принял немножко из припрятанной бутылочки и глядит куда-то в темноту. Хорошо и весело ему стало и поет Афоня в эту теплую темень песенку без слов и мелодии, мычит просто. Ммм. Мумм. Умумм. Мумм. Словно кот на батарее центрального отопления.
Тут Люська проснулась было, приподнялась, что-то буркнула и на другой бок завалилась. Хррр.
Люська маленько с приветом, именует себя Люси и утверждает, что когда-то ее так прозвали битлы, потому что она летала в облаках и вся в алмазах. Ох-ох. Люська и Афоня не трахаются. Во-первых, у Афони не встает, а во-вторых, Люське и самой этого не нужно. У них есть общие дела поинтереснее – выпить, потрындеть, задремать в пьяной отключке. Да и на пару шариться по помойкам веселее как-то. Люська и Афоня жизненные друзья.
Афоня дремлет и в закрытые глаза его и ноздри, в рот и уши легким туманом заползают тонкие сны, не поймешь, о ком они и о чем.
Вот этот сон, наверное, из детства.
Чей это голос? Мама, твой? Маленький Афоня с мамой едут к дедушке куда-то в Сибирь, в деревню какую-то, а по пути сходят в большом городе, потому что обязательно нужно навестить двоюродную сестру мамы тетю Сороку и муженька ее дядю Мизгиря и еще кого-то четвероюродного и еще разведенную жену кого-то сводного, от которого у нее твой неродной брат Дождевик. Черт, как это, неродной брат?