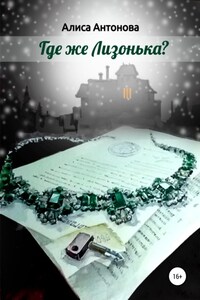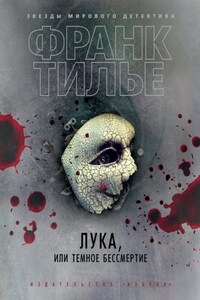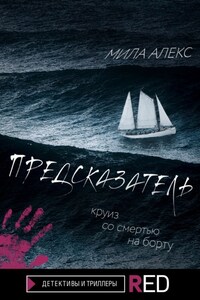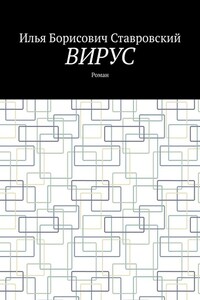Восходит солнце огибая сосны
что к озеру стоят вплотную
день прожив падает оно в морскую глубь за горизонтом
нас оставляя в черной темноте страдать и ныть
так солнца отделяет друг от друга
ночь темная где есть лишь лунный свет
а влага что поила днем растила цвет
тут ночью остужает кровь и ноги сводит в лед
так Рига нас молотит души проверяя
есть ли там хлеб добротный из чего ей печь
чем накормить тех кто еще к дороге зреет
и дух чей вынужден здесь будет ночевать и тлеть
О
трыв
Пора. Пора уже. Я всматриваюсь в стрелки часов. Пора. Время, когда перед самым закатом все краски вдруг вспыхивают ярче. Женщина, сидящая со мной рядом, напрягается. Ее губы шепчут слова молитвы, пальцы сжимаются, она вот-вот перекрестится. Я прикрываю глаза, отворачиваюсь. Начинают реветь двигатели нашего самолета, мы выезжаем на взлетную полосу, и я с неожиданной для себя самого нежностью беру соседку за руку, в глазах сорокалетней испуганной женщины читается благодарность.
– Спасибо! – пытается прошептать она, но пересохшие губы не издают ни звука. Я снова зажмуриваюсь. Все сжимается до размера точки: гудит мотор самолета, рижские башни раскачиваются, точно пасхальные качели, лицо матери, потемневшее от подозрений, вдруг озаряет улыбка, отец, движимый внезапным порывом беспокойства, протягивает мне руку, которая превращается в кисть госпожи Вилмы, изящным движением наливающую в чашку черный дымящийся чай; испуганное, по-детски заплаканное лицо Ясмины исчезает за обрызганными грязью дверьми трамвая, смыкающимися с жестким машинным скрипом; какие-то холсты, фарфор, мебель – все вдруг закручивается гигантским волчком, обращается в зонт, взмывающий ввысь. С яблоневых ветвей осыпаются плоды и падают в траву возле нашего дома в Межапарке, в маслятах копошатся червячки, испуганно вскрикивает бабуля Лилиана, поскуливает наш лабрадор Джерри… и тут все ломается, сжимается, становится размытым и в одно мгновение выплескивается. Я уже в воздухе – свободный, опустошенный и… до горечи одинокий.
Голос женщины, сидящей рядом, вновь обретает звучание и начинает бубнить и бубнить что-то, потом наконец стихает. Моя рука, которую она выпускает, безвольно падает мне на колени. Женщина, благодарная за поддержку, заботливо укрывает меня моим же свитером и оставляет меня в покое. Я погружаюсь в дремоту и за миг до того, как совсем уснуть, успеваю увидеть внизу то, что называют Ригой. Сгусток уплотненной ткани, из которого метастазами тянутся серые шоссе, стараясь захватить последние зеленые островки парков. Точно такой сгусток, очень похожий на тот, что выел желудок моего отца. Жадные клетки, разросшиеся в его теле, захватили и высосали все живое. Такой же точно алчный, неумолимый злодей пожрал и легкие госпожи Вилмы. И рядом с этим спутанным серым узлом – море черноты, большая вода, темная и пугающая своей непостижимостью и необъятностью, куда не уставая несет свои волны Двина.
Но все продолжается только миг – солнце проваливается в мглистую дыру между туч, и картина моментально меняется. Рига вспыхивает всей мощью электрического освещения, преобразившись в золотой клубок сияющих ниток, которыми вспыхнул минуту назад казавшийся неживым асфальт. Нити тянутся к очагам тьмы – недавним зеленым островкам, еще секунду назад казавшимся последними бастионами живого. Зато черная бездна залива не утратила своей мощи и теперь выглядит еще более мрачно и устрашающе. Вид сиротливых, затерянных в безбрежности черноты огоньков кораблей, ожидающих в рейде своего захода в порт, лишь усиливает чувство потерянности в невесомости. Свет преображает. Тьма преображает. Что есть истина? И кто есть мы сами? И для чего, для чего мы создаем эти клубки света, клубки тьмы, чтобы затем умирать, хватая ртом каждый глоток свежего воздуха, забываясь, ища кратковременного спасения кто в морфии, кто в богеме? Милосердные облака прикрывают все. Мы оторвались. В очередной раз оторвались от земли.